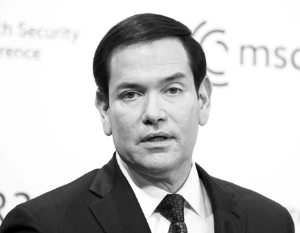Передача прошла сразу же вслед за чествованием «Зенита» на фоне провала сборной, и это совпало, конечно же, нечаянно, а зарифмовалось по-григорьевски чисто и звонко: едва ли не все питерские «кричалки» – загодя, впрок и с запасом на добрую дюжину триумфальных чемпионатов – сочинены поэтом, который начал ходить на футбол (и за водкой, и с водкой на футбол) едва ли не раньше, чем научился ходить. А технику стихосложения – на уровне подлинной виртуозности – освоил едва ли не одновременно с навыками членораздельной речи.
«На полотне великого голландца я не прибавлю, не убавлю глянца – не о голландцах нынче разговор! В иные дни, единой чести ради, не где-нибудь еще, а в Ленинграде, скрываясь, мы несли ночной дозор.
Григорьев, поэт-традиционалист, был автором нескольких шедевров любовной, философской и гражданственной лирики, место которым – в самой краткой и самой взыскательной по отбору антологии отечественной поэзии
С нас не писали групповых портретов. Нас не воспринимали как поэтов. Но не внимал ночной дозор ничьим благим советам, что звучали хором! Ночной дозор – он шел ночным дозором, прислушиваясь к шорохам ночным.
Ночную тяжесть ощущая кожей, я не пытался даже искрой божьей в кромешном мраке высветить строку. Я просто шел своим ночным дозором по времени и городу, в котором тьма темных мест, как в «Слове о полку».
Ну и, понятно, четвертьвековой давности поэма «День «Зенита», в которой параллельно разворачиваются два сюжета: Сталин с Кировым разбираются, быть или не быть в городе на Неве футбольному стадиону-стотысячнику (и если быть, то не на берегу ли Финского залива), а мы с Григорьевым («За мной увязался поэт-переводчик, в поэме он назван Абрам Колунов») посещаем единственный тогда подлинно фанатский 33-й сектор и, выйдя в перерыве на лоно природы выпить «Агдама в пополаме» (то есть портвейна-бормотухи «Агдам» пополам с водкой), увлеченные беседой, не замечаем, что приливная волна уже отрезала нас от материка.
На самом деле все было куда смешнее. Тройной кордон милиции у входа на 33-й мгновенно выхватил Григорьева из самой гущи торсиды и принялся немилосердно обыскивать. Из карманов у поэта полетели винные пробки (которыми он запасся, чтобы кидаться в неудержимых форвардов киевского «Динамо»), но милиция, не ослабляя натиска, трясла Гешу в поисках катушек (запланированных к использованию с той же целью), и эти поиски в конце концов тоже увенчались успехом. Но водку он на сектор все-таки пронес, и мы распили ее на месте, распили еще до перерыва, распили между двумя «раскачками». Да и как было не распить, если уже к десятой минуте «Зенит» проигрывал 0:2 (и проиграл в итоге 0:3)? И весь наш 33-й сектор прошел после этого парадоксально победным маршем по Приморскому парку и по всей Петроградской, скандируя: «Зенит» – чемпион!» и «Мы по городу идем, стукаем и брякаем, кого встретим по пути, сразу отх…якаем!» Надо ли уточнять, что и эту «кричалку» сочинил шельмец Григорьев?
«За окнами грохочет пятилетка. А мне с тобой спокойно и легко. Поведай мне о Блоке, блоковедка, скажи, что мне до Блока далеко.
Ты осторожна и хитра, как кошка. И мне не приручить тебя никак. И все-таки пора закрыть окошко. Закрыть окошко и открыть коньяк.
Отбросим прочь рифмованную ветошь! Ведь мы не зря горюем и горим. Мне далеко до Бога, блоковедыш. О Блоке мы потом поговорим».
Ему было тогда тридцать три. Он успел поучиться на филфаке ЛГУ и в Литинституте (по одному семестру и там и тут). У него были две жены – и по сыну от каждой. Перед встречей со старшим (тогда семилетним) мать выдала мальчику десять рублей, «потому что твой отец наверняка припрется без копейки». Узнав о десятке, Григорьев возликовал: «Значит, так, Толя, сейчас в тир! Тратим там целый рубль. Потом мороженое – на целый рубль. А потом восемь рублей пропиваем!»
Анатолию Григорьеву, преуспевающему беловоротничковому бизнесмену, который занимается сейчас изданием отцовского наследия, повезло с именем. Вернее, он должен благодарить за него мать. Потому что счастливый отец облюбовал для первенца имя Бартоломео.
«Как бы я с этой женщиной жил! За нее, безо всякой бравады, я бы голову даже сложил, что сложнее сложенья баллады. Дав отставку вчерашним богам, я б не слушал сомнительных сплетен. И отдал бы ей все, чем богат. И добыл бы ей все, чем я беден. Я б ей верой и правдой служил! Начиная одними губами, я бы так с этой женщиной жил, что в морях возникали б цунами! И, за нею не зная вины (что поделаешь – годы такие…), наблюдал я лишь со стороны, как бездарно с ней жили другие. Но однажды (я все же везуч – помогает нечистая сила!) протянула мне женщина ключ, поняла, позвала, поманила. И теперь не в мечтах – наяву, не в виденьях ночных, а на деле – как я с женщиной этой живу?! А как сволочь. Глаза б не глядели».
Официальными регалиями он так и не обзавелся, поэтому перечень его достижений уместнее всего сформулировать в частном порядке. Геннадий Григорьев был, бесспорно, лучшим поэтом своего поколения. Геннадий Григорьев на рубеже 80–90-х прошлого века был самым популярным поэтом нашего города. Геннадий Григорьев был единственным (наряду и наравне с Глебом Горбовским) поэтом, творчество которого в равной мере привлекало и искушенных знатоков, и широкую публику. Геннадий Григорьев был королем питерских поэтических подмостков, пока существовали сами подмостки. Наконец, Геннадий Григорьев, поэт-традиционалист, был автором нескольких шедевров любовной, философской и гражданственной лирики, место которым – в самой краткой и самой взыскательной по отбору антологии отечественной поэзии.
«Не принося особого вреда, здесь кофе пьют бунтарь и примиренец. Сюда глухая невская вода врывается во время наводненьиц. Академичка! Кладбищем надежд мальчишеских осталось для кого-то местечко, расположенное меж Кунсткамерой и клиникою Отта… Но не для нас! Пусть полный смысла звук – залп пушечный – оповестит округу о том, что время завершило круг очередной. И вновь пошло по кругу. Я здесь, бывало, сиживал с восьми. А ровно в полдень – двести! – для согрева. Дверь – на себя! Сильнее, черт возьми! И если вам – к Неве, то вам – налево».
(Отдельно для доморощенных стиховедов выделю виртуозное звукоподражание «залп пушечный» – именно таким «п-п» и раскатывается полуденный выстрел крепостной пушки по историческому центру Питера.)
И при всем при этом Григорьев, как вы уже поняли, был человек-скандал и в чем-то даже человек-анекдот. О нем вечно рассказывали самые фантастические истории – и все они неизменно оказывались сущей правдой. Вот он приходит в Союз писателей на секцию поэзии – и, показывая, что там нечем дышать, надевает противогаз. Вот, одолжив сто рублей, покупает дом в Крыму. Вот поступает в Литинститут – и проводит за единственную зимнюю сессию сто двадцать кулачных поединков, из которых сто девятнадцать проигрывает нокаутом. Вот появляется на экране в образе телесериального бомжа. Вот, играя (на деньги) в «Эрудит», роняет из рукава на стол лишнюю букву «Ю»...
Лучшие годы поэта Григорьева совпали со временем так называемого застоя |
Талантливые поэты сплошь и рядом бывают психически неадекватны. Но это не случай Григорьева. При всем своем шутовстве, переходящем в плутовство (и наоборот), он был чрезвычайно здравомыслящим человеком. С ним интересно было разговаривать – обо всем, по меньшей мере пока он не напивался. А когда родным или женам (законным и гражданским) удавалось его приодеть и отмыть, он становился хорош собою.
Дурачась (и выставляя себя дураком, что тоже, увы, бывало), а вернее, ведя себя на протяжении всей жизни вызывающе антибуржуазно, он словно бы сознательно давал фору незадачливым (или хотя бы не столь фантастически одаренным) собратьям по поэтическому цеху: он предоставлял им возможность не только люто завидовать, но и презирать. Так они и поступали: завидовали – и с облегчением презирали; презирали – и все равно завидовали...
Видел я их лица, видел глаза на последнем (четырехлетней давности) подлинном бенефисе Григорьева – на презентации в «Бродячей собаке» его поэмы «Доска» (о мемориальной доске с места последней пушкинской дуэли, которую он сам же с собутыльниками и украл, а потом, под юбилей, торжественно «вернул городу»).
Лучшие годы поэта Григорьева совпали со временем так называемого застоя. Пик всесоюзной (тогда еще) популярности пришелся на 1989 год и был связан с публикацией прелестной (и, разумеется, пророческой) жанровой сценки «Сарай»:
Ах, какие были славные разборки! Во дворе, под бабий визг и песий лай, будоража наши сонные задворки, дядя Миша перестраивал сарай.
Он по лесенке, по лесенке – все выше… А в глазах такая вера и порыв! С изумленьем обсуждали дядю Мишу зазаборные усадьбы и дворы.
– Перестрою! – он сказал. И перестроит. Дядя Миша не бросал на ветер слов. Слой за слоем отдирал он рубероид – что-то около семидесяти слоев…
Сверху вниз летели скобы, шпингалеты… (Как бы дядя Миша сам не рухнул вниз!) Снизу вверх летели разные советы…В общем, цвел махровым цветом плюрализм.
Во дворе у нас на полном на серьезе дядя Миша перестраивал сарай. Дядя Боря, разойдясь, пригнал бульдозер… Дед Егор ему как рявкнет:
– Не замай!
Дело тонкое… К чему такие гонки? И не каждому такое по уму!.. Мы с дружком глушили водку чуть в сторонке, с интересом наблюдая – что к чему.
Вдруг стропила как пошли, просели… (Ух, мать!) Неужели план работ не разъяснен? Дядя Миша, ты позволь… Мы эту рухлядь в четверть часа топорами разнесем!
Эй, ребята! Кто ловчей да с топорами, разомнемся? Пощекочем монолит? Дядя Миша говорит:
– Не трожь фундамент! Он еще четыре века простоит.
Мы б снесли все до основ, как говорится… И построили бы сауну… сераль… На худой конец хотя бы психбольницу… Дядя Миша перестраивал сарай.
Мы с дружком сидим по-тихому, бухаем. В этом ихнем деле наше дело – край. Все равно сарай останется сараем, как он там ни перестраивай сарай».
С годами Геннадия Григорьева – благо он давал повод – начали замалчивать. Новое время не требовало новых песен, не помнило и прежних; но с этим-то как раз поэты свыклись, благо их маленькие домашние радости остались при них... Старея, стихотворцы сбивались в стайки, агрессивные и всё непоправимей бездарные. И нехотя – но никуда не денешься – готовили себе (и только себе) точно такую же смену. Подрастали и самостоятельно нацеленные на гранты в СКВ стихопишущие волчата – розовые и в основном голубые. Серо-буро-малиновые.
Григорьева на этом празднике жизни уже не было. Да и быть не могло. И в стихах, и в жизни он все больше походил на Одинокова, походил на позднего Георгия Иванова…
В последний раз мы виделись на презентации поэтического сборника клуба «Дерзания»; сначала во Дворце пионеров, а потом, ночью, в курицынской «Платформе», тогда уже тоже дышавшей на ладан. В эту ночь мы общались с ним и еще с парой-тройкой друзей с невесть откуда взявшейся юношеской беззаботностью. А потом, ближе к позднему осеннему рассвету, он куда-то запропастился.
Выйдя на улицу Некрасова и сажая одну из наших недавних собеседниц на такси, я внезапно увидел на другой стороне улицы Геннадия Григорьева. В полном одиночестве и заметно качаясь на ходу, он брел куда-то в сторону Литейного... Я проводил его взглядом.
А что я оставлю, когда я уйду,
Чем имя в потомках прославлю?
Наследства не будет.
Имейте в виду –
Я вам ничего не оставлю.
И берег балтийский, и крымский прибой,
И мачту, и парус на мачте –
Я весь этот свет забираю с собой.
Живите без света и – плачьте!
Моцарт безошибочно распознал ровню в уличном скрипаче. Сальери (в пушкинской версии) безошибочно распознал Моцарта в Моцарте. Мы до смешного не умеем распознавать своих Моцартов, особенно когда они предстают перед нами в обличье уличных скрипачей. Следовательно, мы не Сальери? Нет, это силлогизм. Мы не Моцарты, так-то оно вернее.
 Никита Анисимов
Для Кубы начался обратный отсчет
Никита Анисимов
Для Кубы начался обратный отсчет