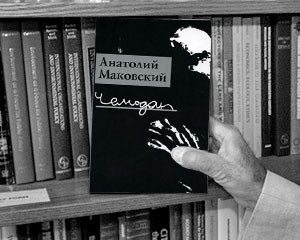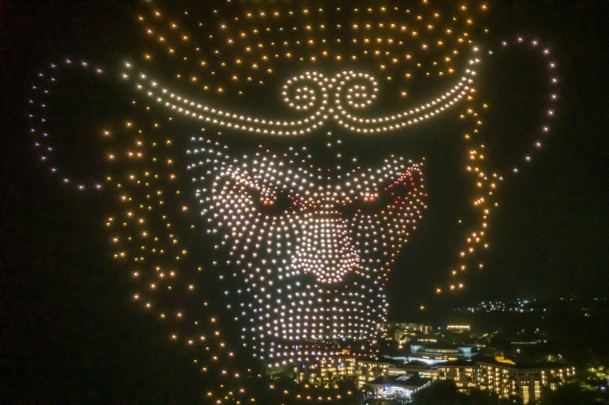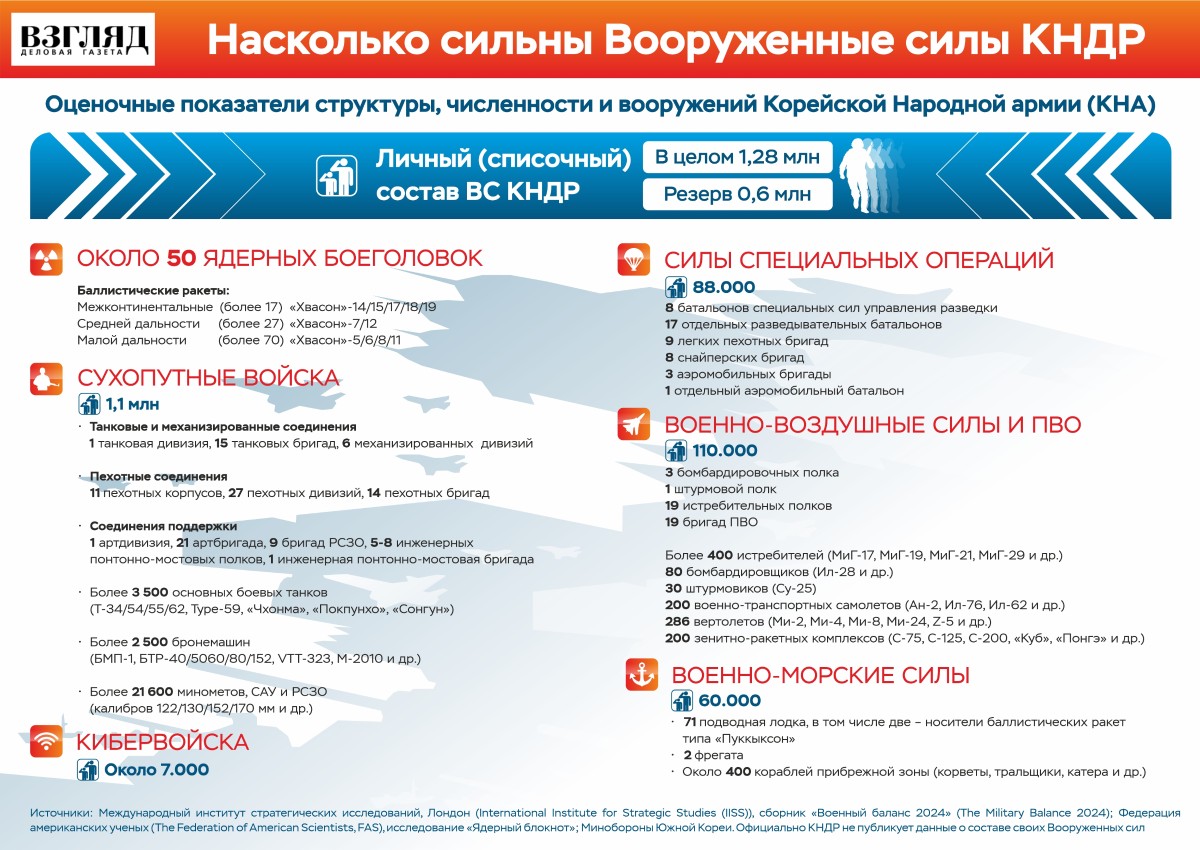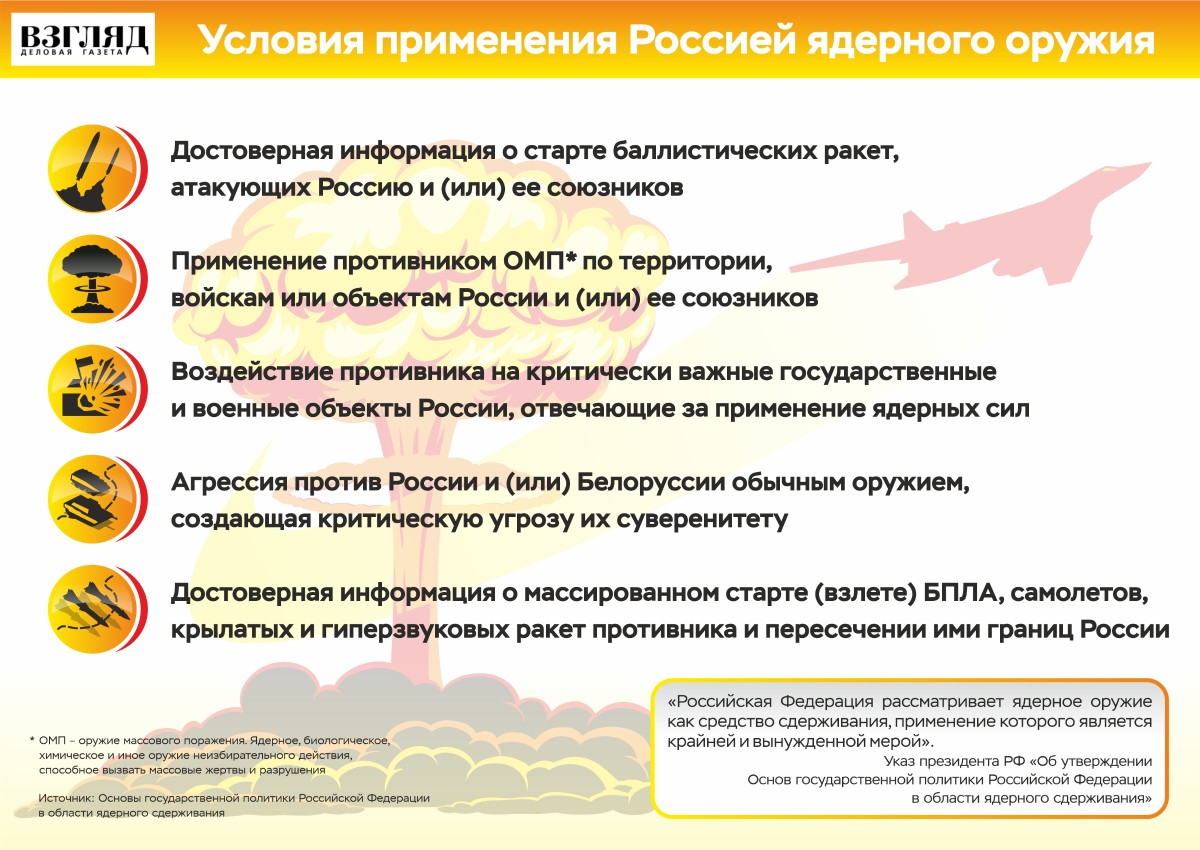«В августе 1995 года в последний раз уехал в Киев…» – так, не называя самого слова, Ахметьев говорит о смерти Маковского. Далее – что-то вроде попытки вписать Маковского «в контекст»: «В Москве 60-х примыкал к кругу Леонида Иоффе – Евгения Сабурова.
Маковский просто не скован никакими условностями – абсолютная «детскость», позволяющая не задумываться над «правильностью» образа
В Новосибирске с 1966 принимал активное участие в неофициальной литературной жизни. Ему многим обязаны Иван Овчинников и Александр Денисенко. Его высоко ценил Евгений Харитонов. Первая книга вышла в Новосибирске в 1992 г. Эта небольшая книжка представляет позднее творчество выдающегося русского поэта».
В «Комментариях» Ахметьев тоже не избаловал читателя информацией (это, конечно, не упрек) – они занимают несколько строчек. Среди них есть столь трогательные, о которых просто не могу не упомянуть. Например, у Маковского фигурирует персонаж – «один ублюдок», он же «пехотный моряк», «Вий», «один талант».
Иван Ахметьев дает деликатный «исчерпывающий» комментарий: «одно московское лицо», – поясняет он, и всё.
Книгу Маковского нельзя просто так перелистывать, выдергивая взглядом фрагменты. Потому что может показаться: какая-то отпетая графомания. «…Оградившие Русь от – Запада, / Где морали давно закат. / Развращают нас кинозалы, / Голливуда десант за кадром».
Что еще за рифмованная пропаганда? Однако все совершенно не так. Маковский просто не скован никакими условностями – абсолютная «детскость», позволяющая не задумываться над «правильностью» образа: «Я как Пушкин – смотрю телевизор…»
Сквозная тема книжки – дорога, вокзалы, украденный чемодан с «культурой» (стихами Маковского): «Обокрали меня, извините! / Нет, я сам виноват – подпил…/ И оставил чемодан, стихи – излишество,– / Как оставил Буратино Шекспир» (какой Шекспир, причем тут Буратино? – скажет привыкший к гладкописи читатель, и будет глубоко неправ).
Всякий поэт (конечно, не всякий) вроде бы «должен» покушаться на самоопределение: ежели судьба трагическая, то вроде как изволь объяснить или хотя бы намекнуть читателю, отчего «не вписался» в так называемый контекст эпохи. А тут уж схем готовых столько, что читатель и сам, в случае чего, подобрать подходящую сможет.
А у Маковского…
Дело об украденной тележке
Самое драматическое стихотворение – не о роковой краже чемодана «с культурой» на Брянском вокзале, а об утрате тележки:
…И в пути я совсем загнулся
На вокзалах валялся всех
С чемоданами полз, как гусеница.
Выручала немножко тележка.
И сочувствовали мне люди
А особенно – один старик
Я не знал, что он выпить любит
Как барашек тележка стоит
Помню кадр только: вроде, цыгане,
Или – кто-то… не знаю кто.
И двенадцать зеленых поганых,
Что копил, развернул, как игрок.
В вытрезвителе – все еще думал,
Что вернут мне тележку, вернут…
Металлический, последний друг мой,
Будем помнить ее в раю!
Пережил… С Танею созвонился…
Может – друг один в Сибири спасет…
Ты, Москва, будешь духом нищей
Пусть в сирени Брянск доцветет.
В общем, мне симпатична изящная сдержанность Владимира Орлова и Ивана Ахметьева, не снабдивших издание каким-либо аналитическим послесловием-предисловием.
Формальные параллели напрашиваются (скажем, из провинциальных, саратовских, – Ярыгин, Ханьжов), – но тут же и отпадают. Маковский как-то вопиюще нелитературен и не вызывает желания немедленно его каталогизировать.
И вот при этой самой вопиющей нелитературности – такой факт: на страницах 60-страничного сборничка поминаются имена: Шекспир, Пушкин, Мандельштам, Солженицын, Есенин, Лермонтов, ссылка на некий рассказ писателя Валерия Перфильева, Вергилий, Дант, Рильке, Окуджава, Владимир Тучков, поэты Алексей Пахомов и Петр Степанов («крупнейший сибирский поэт моей эпохи» – поясняет Маковский), Высоцкий (многократно), Маяковский, Чехов, Гаршин…
Позволю себе бессовестно выдернуть из контекста цитату: «Но вижу время я вдали: забудут Бродских, или Приговых, / И – много всякой шушеры» («День победы»).
Одно из стихотворений Маковского называется «Проханов и Чехов» (!) Плюс художники, музыканты, философы. Оставлю это удовольствие читателю – понять, по какому рецепту смешивает Маковский свой «культурный» коктейль.
Закончу неисчерпаемый разговор просто строчкой из Маковского – одной из самых-самых: «Он был немного удивлен, меня вокруг себя увидев…»
 Сергей Худиев
Нужно ли в России многоженство
Сергей Худиев
Нужно ли в России многоженство