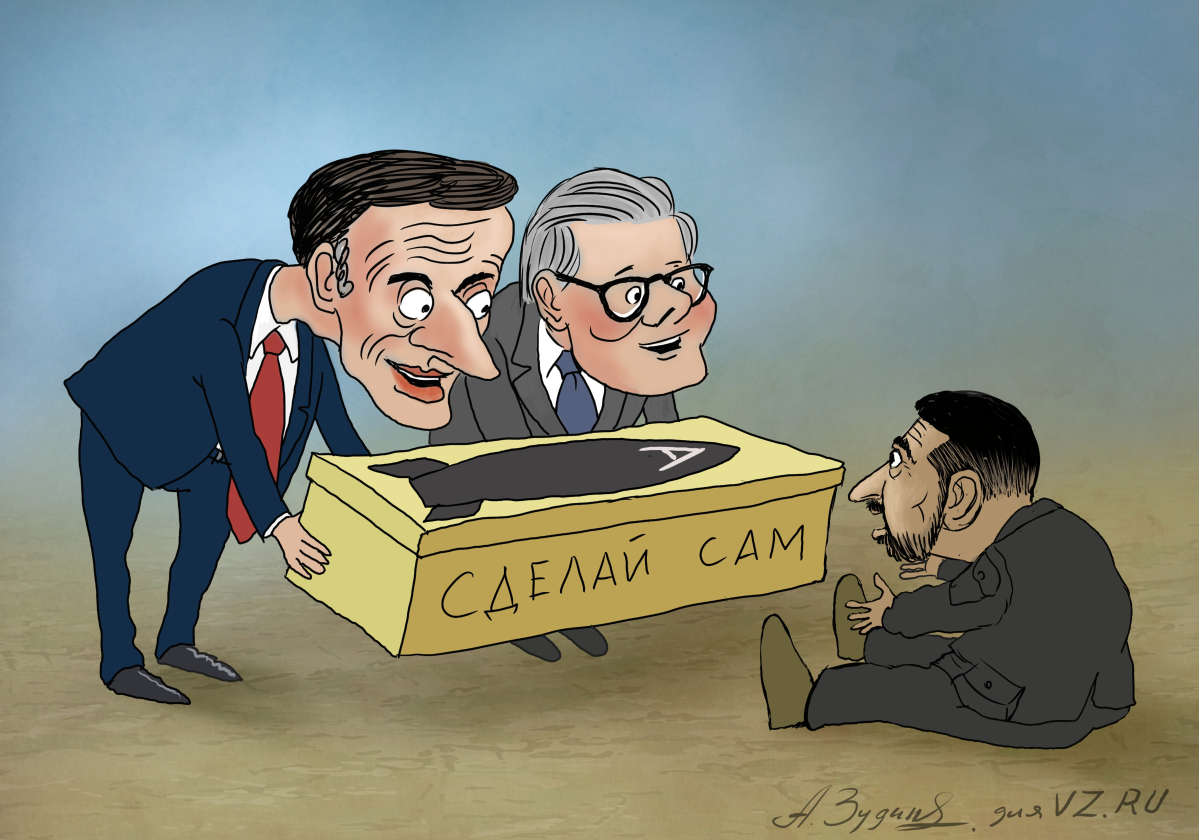Написание мемуаров – почти неотъемлемый элемент джентльменского набора, причитающегося человеку думающему, которому к тому же довелось стать свидетелем небезынтересных событий и дожить до почтенного возраста в здравом уме. Обозревать ландшафт эпохи со своей колокольни и произносить по итогам этой процедуры четкие фразы – хороший тон. Как и в случае любого литературного или публицистического жанра, читательский интерес к мемуарам определяется прежде всего тремя моментами: содержанием, стилем и магией авторского имени (или же другой, но похожей вещью, а именно социальной аурой и репутацией той личности, чьему перу принадлежит текст). Есть, само собой, еще такой феномен, как харизма; эта тонкая субстанция, собственно, является алхимическим экстрактом из стиля и репутации, но зависит еще и от авторского имиджа, напрямую создаваемого аудиовизуальными средствами.
Познер первоначально являлся не столько автором книги, сколько редактором сборника интервью с самим собой
Позиции Владимира Познера по всем этим пунктам, несомненно, сильны; по одним пунктам они сильнее, чем по другим, что естественно и нормально. Стиль в «Прощании с иллюзиями» популярный, журналистский, но при этом вполне индивидуальный и узнаваемый, баланс между увлекательностью и обстоятельностью почти идеальный. С магией имени и социальной аурой тоже все в порядке. Ну и, само собой, харизма с большим упором на аудиовизуальную составляющую (имеющаяся, кстати, далеко не у каждого автора) присутствует, и еще какая.
Однако самым важным и наиболее занимательным компонентом познеровских воспоминаний оказывается содержание (главенствующая роль которого – тоже большой плюс). Чтобы правильно и в полной мере оценить его, нужно учесть одну из главных особенностей книги, а именно ее своеобразную судьбу, повлиявшую на текст ее русского издания и сделавшую ее недавний выход в России событием если не беспрецедентным, то уж во всяком случае «штучным».
Мироздание, по-видимому, все-таки действительно склонно к равновесию или, по крайней мере, к разного рода компенсаторным эффектам: журналист и интервьюер Познер первоначально являлся не столько автором книги, сколько редактором сборника интервью с самим собой, и лишь позже превратился в мемуариста.
В США книга вышла в 1990 году (фото: ast.ru) |
Во второй половине 1980-х один из американских друзей Познера, сын писателя-коммуниста Альберта Кана (который, в свою очередь, был приятелем отца Познера) предложил уже ставшему знаменитым советскому медийному деятелю написать книгу о себе. Когда Познер отказался, сославшись на нехватку времени, американец записал с ним серию больших интервью, расшифровал запись, разбил то, что получилось, на главы и прислал на редактуру своему герою-собеседнику. Но получившийся таким образом текст знающие люди сочли несколько неполным, после чего Познер выбросил основанный на интервью «полуфабрикат» и сделал наконец то, о чем его просили, то есть написал настоящую книгу воспоминаний. В 1990 году она была выпущена американским издательством The Atlantic Monthly Press и стала бестселлером, продержавшись на первом месте книжного рейтинга газеты The New York Times в течение двенадцати недель. Перевода не потребовалось – билингв Познер написал мемуары по-английски.
Авторский перевод на русский был сделан лишь в конце 2000-х. Перечитав некоторые пассажи по прошествии двадцати лет после того, как они были написаны, мемуарист испытал сложные чувства и нашел мудрый выход из создавшегося положения: он решил ничего не править, но снабдить российское издание специальными комментариями, отразив в них свой нынешний взгляд на некоторые события и на самого себя.
В итоге «Прощание с иллюзиями» в их нынешнем русскоязычном варианте оказалось как бы двухуровневыми мемуарами, мемуарами в квадрате. Мы читаем воспоминания, написанные в конце 1980-х и посвященные военному и послевоенному времени, периодам так называемой оттепели, так называемого застоя и так называемой перестройки. И тут же – не в конце книги, а внутри текста, в самых разных его местах – сегодняшние соображения Познера, порой перетекающие в новые воспоминания, которые относятся отчасти уже к 1990-м и 2000-м.
Одна из самых любопытных частей книги – рассказ о детстве и отрочестве. Владимир Познер, сын русского еврея-эмигранта и француженки, появился на свет в Париже, провел первые пять лет жизни в США и потом еще немного времени во Франции, а затем до 1948 года жил в Америке. Первым его языком был английский – именно на этом языке он говорил в период первоначального формирования личности; русский выучил в советской школе в Германии, куда семья переехала еще до того, как осесть в России. Глава «Моя Америка» захватывающе интересна: здесь очень много субъективных, но взвешенных и обоснованных свидетельств и об американской культуре 1940-х, и о дружественном отношении американцев к русским, характерном для военных лет, и о последующей резкой «перемене ветра», повлекшей за собой жесточайший коллективный приступ антикоммунизма и русофобии.
Повествование о советской медийной карьере, написанное с умеренно-либеральных и не оголтело перестроечных позиций, тоже заслуживает внимательного чтения. Роль сегодняшних комментариев автора становится здесь более существенной, чем в начале книги, если не решающей. Работа в самых главных советских СМИ, гибкое противостояние авторитарному начальству и цензорским мерам, отъезд на работу в страну отрочества, США, где опять-таки практиковалась цензура, – все это изображено с глубоким чувством, не мешающим, однако, здравой рефлексии.
#{interviewcult}Познер довольно внятно выражает убежденность в том, что в 1990-х дышалось легче, чем теперь. Но такой взгляд компенсируется спокойным и отчасти позитивным отношением к нынешнему времени, к его характерным явлениям и эмблематичным фигурам – в частности, к Путину, которого по некоторым историко-политическим параметрам даже оказывается возможным сопоставить с Джорджем Вашингтоном.
Но самое трогательное – это, конечно, автокомментарии из 2000-х, в которых порой чувствуется некоторое стеснение автора по поводу чрезмерной «советскости» старого текста. Между тем стыдиться Познеру совершенно нечего, ибо, выступив своего рода медийным послом СССР в США, журналист сделал правильный выбор – хотя бы потому, что в результате он сыграл уникальную социокультурную роль, которую никто другой себе в актив записать, пожалуй, не может.
Сравнивая путь Познера с карьерой некоторых его современников, безоговорочно принявших сторону североамериканской империи добра, проникаешься уважением к двуязычному Владимиру Владимировичу: он никого не предавал и не участвовал ни в каких крестовых походах против своей второй и главной родины. А стилистические диссонансы и некоторая топорность риторики двадцатилетней давности – вещь не смертельная.
 Ольга Андреева
Почему Сталин возвращается
Ольга Андреева
Почему Сталин возвращается