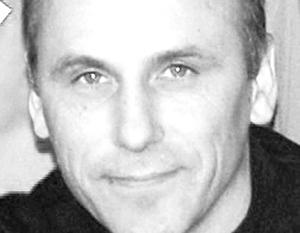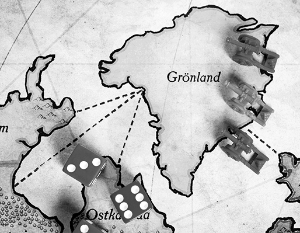В рамках проекта «Клуб читателей» газета ВЗГЛЯД представляет текст Александра Дубровского о том, что обстановка в мире, как экономическая, так и политическая, все отчетливей приобретает форму медленно затягивающейся петли, где уже и не разберешь, то ли экономика – петля, а политика – мыло, то ли наоборот.
Очередной «марш подлецов», вынырнувший из параллельной реальности, порадовал своей неуместностью и откровенной несовместимостью с подавляющими народными чаяниями и устремлениями.
За шесть лет долговая нагрузка, формировавшаяся много десятилетий, выросла практически в два раза, что свидетельствует лишь об исключительной неэффективности мировой экономической системы
Почти тут же напомнил о себе бывший главный узник, вновь пожелавший занять президентский трон. Почему вновь? Да потому что уже желал, за что и поплатился вынужденной командировкой в места не столь отдаленные. Теперь желает с безопасного расстояния.
Россия взяла курс на индустриализацию, выдавая на-гора ежемесячно десятки новейших заводов во всех сферах производства, не обращая внимания на западные санкции и угрозы кабинетных креативщиков о неминуемом народном гневе.
Роснефть порадовала открытием крупнейшего месторождения в Карском море, ничуть не расстроившись метаниями главного партнера – ExxonMobil, что лишь активизировало на самом высоком уровне злободневную тему импортозамещения в добыче и переработке нефти.
Повторяю, никто не расстроился, разве что чуть-чуть, потому что российские промышленники и инженеры уже не первый год работают, а не только заседают и выдают тонны программ и шапкозакидательских проектов.
Вот свежие данные о состоянии дел в нефтепереработке, из которых следует, что по большинству основополагающих позиций в оборудовании российская промышленность уже до 80% справляется исключительно собственными силами, и лишь по компрессорам пока находится в зависимости от Запада, что, безусловно, не является никакой нерешаемой задачей.
Между тем «парад» новых российских производств происходит на крайне негативном внешнем фоне, в том числе напрямую касающемся России. Однако я бы не стал и никому бы не советовал рвать волосы из-за падения индексов или ослабления курса рубля.
Первое вообще не имеет никакого отношения к реальной экономике и к благосостоянию граждан России, второе не только может, но и, судя по темпам, принесет в бюджет страны 1–2 дополнительных триллиона рублей. В конце концов, курс доллара или евро – величина переменная и крайне изменчивая, никак не отражающая реальное состояние экономик эмитентов.
Более того, я утверждаю: мировая статистика, оперирующая процентами и долями процентов роста/падения экономик стран «цивилизованного» мира, является инструментом беспардонной лжи, за горизонтом которой уже в принципе нет «золотого миллиарда», так как там это паразитическое образование просто не имеет права на существование.
Сказанное ничуть не гипербола, а банальная констатация факта: пациент мертв, без всяких «скорее, чем». Обманчивое же восприятие состояния пациента сродни магии вуду, когда умершее животное вдруг воскресает, встает и начинает бегать, оставаясь при этом трупом.
Еще с советских времен помню частые критические упоминания о дефиците бюджетов капиталистических стран, что в 90-х годах на какой-то период времени стало закономерно восприниматься в качестве коммунистической пропаганды.
Более того, прекрасно помню научные и околонаучные разъяснения различных экономических школ, вдруг выросших как грибы, о том, что именно дефицит бюджета является одним из двигателей прогресса человечества, и источником прогресса являются, естественно, развитые западные государства (читай – дефицитные).
А с точки зрения кейнсианства последующее заимствование средств для покрытия дефицита – не что иное, как средство стимулирования экономического роста. Кстати, если не ошибаюсь, за подобные высоконаучные обоснования было вручено даже несколько Нобелевских премий по экономике.
Между тем хитрость заключается в том, что превышение расходов над доходами является нормальным явлением только в одном случае – если дополнительные расходы, осуществляемые путем заимствования из внешних или внутренних источников, представляют собой вложения в объекты, которые потенциально дадут дополнительный доход в обозримый период времени.
То есть дополнительные расходы являются инвестициями – и никак иначе. Все остальное с экономической точки зрения называется покрытием убытков, предназначенным для искусственного сохранения спроса. О том, что расходы западных стран в львиной своей части не являются инвестициями, прямым, а отнюдь не косвенным образом свидетельствуют данные роста долговой нагрузки.
То есть с одной стороны мы имеем хронический дефицит бюджета, являющийся не чем иным, как убытками, с другой стороны – займы, предназначенные для покрытия хронических убытков.
Спонтанный рост долговой нагрузки после кризиса 2008 года свидетельствует о том, что все предыдущие десятилетия (примерно с 70-х годов 20-го века) дефицитных бюджетов ведущих западных стран (США, Англия, Германия, Франция, Италия, Испания и др.) государственные займы предназначались исключительно для покрытия убытков. Иначе придется признать, что эти страны делали инвестиции в проекты с горизонтом отдачи в 40–50 и более лет!
Я таких гигантских проектов, осуществляемых в условиях нехватки средств, не знаю, кроме условно безвозвратных вложений – оборона, космос, фундаментальная наука, инфраструктура, которые так или иначе имеют свою коммерческую составляющую: продажа вооружений, внедрение космических технологий, прикладная наука на базе фундаментальных открытий и общее ускорение процессов при развитой инфраструктуре.
А теперь попробуем немного разобраться в цифрах, опираясь не на псевдонаучные расчеты, а на обыкновенный здравый смысл. Обратим внимание, что в последние десятилетия прирост ВВП крутится вокруг единиц и долей процента практически у всех развитых стран, у которых есть доступ к статистическим данным. То есть стоимость всех произведенных и потребленных за год товаров и услуг с поправкой на инфляцию почти всегда чуть больше, чем было за предыдущий год.
Попробуем отбросить предубеждение к статистической методологии и сделать допущение: нет никаких оснований полагать, что данные о ВВП сознательно занижались, так как это не в интересах мировых статистических агентств, принадлежащих самим западным странам.
А теперь, для простоты дальнейших расчетов, сделаем поправку на погрешность в исследованиях, к примеру, на 1–2%, что является вполне допустимой величиной, когда исследуются макропроцессы с большим массивом данных. Тогда, с учетом допущения, которое мы приняли выше, выходим на нулевой уровень роста ВВП.
Такую ситуацию принято называть стагнацией, как на страновом уровне, так и на уровне отдельных предприятий. Это ни плохо, ни хорошо, можно даже, если очень хочется, назвать стабильностью, когда всем всего хватает, да еще при этом компенсируется инфляция.
Отставим пока в сторону формы собственности (частная или государственная) и их соотношение в каждой отдельной стране, а будем рассматривать государство как корпорацию, существование которой должно подчиняться элементарным законам экономической логики, что подразумевает самодостаточность, то есть наличие внутренних источников для покрытия расходов и достойного содержания «сотрудников» – граждан.
Вопрос: откуда тогда возникает необходимость в заимствованиях, сопоставимых или даже превышающих ВВП? Ответ простой: для создания новых производств, а также для модернизации старых необходимы инвестиции, которые в государстве при нулевом росте негде взять, кроме как произвести заимствование.
В этом случае на коротком промежутке времени может возникнуть долговая нагрузка, что вполне допустимо, так как при вводе в строй новых объектов появляются новые товары и услуги, падающие в копилку ВВП (пусть даже с запозданием), а добавленная стоимость позволяет со временем вернуть кредит.
Процесс этот, в принципе, бесконечен, накладывается один на другой, но в общем и целом никогда не составляет большого труда оценочно сводить дебет с кредитом и выводить баланс в любой момент времени, держа под контролем размеры займов и производство добавленной стоимости.
При этом – даже при нулевом росте ВВП – совсем не обязана постоянно расти и только расти долговая нагрузка. В случае же, если долги из года в год растут на протяжении десятилетий, это означает, что налицо банальная попытка покрыть ежегодные убытки, которые почему-то мировые статистические агентства выводят за скобки в своих «высокоинтеллектуальных» отчетах. При этом размер убытков, если опять же принять во внимание фактически нулевой рост ВВП, как раз и выражается в размере государственного долга (не путать с внешним долгом, включающим корпоративные займы).
Для наглядности выразим сказанное в простой таблице, разбив данные на два периода – до 2008 года и с 2008 по 2013 годы, включающие ведущие страны Запада (с Японией), Китай и Россию:
| Страна | Госдолг до 2008 г. (долл.) | % от ВВП на 2008 г. | Госдолг на 2013 г. (долл.) | % от ВВП на 2013 г. | Коэффициент роста (2008–2013 гг.) | Фактический прирост (долл.) |
| США | 8 951 000 000 | 64,6 | 17 453 000 000 | 104 | 1,95 | 8 502 000 000 |
| Англия | 1 078 000 000 | 43,4 | 2 194 000 000 | 89 | 2,03 | 1 116 000 000 |
| Испания | 489 000 000 | 39,6 | 1 242 000 000 | 94 | 2,54 | 753 000 000 |
| Италия | 1 940 000 000 | 103,6 | 2 557 000 000 | 127 | 1,32 | 617 000 000 |
| Франция | 1 437 000 000 | 63,7 | 2 376 000 000 | 91 | 1,65 | 939 000 000 |
| Германия | 1 962 000 000 | 67,6 | 2 672 000 000 | 78 | 1,36 | 710 000 000 |
| Япония | 7 503 000 000 | 172,1 | 13052000000 | 219 | 1,74 | 5 549 000 000 |
| Россия | 89 000 000 | 9 | 262 000 000 | 13 | 1,37 | 173 000 000 |
| Китай | 439 000 000 | 16,2 | 2 140 000 000 | 26 | 4,88 | 1 701 000 000 |
| ИТОГО: | 23 888 000 000 | | 43 948 000 000 | | 1,84 | 20 060 000 000 |
То есть фактически за шесть лет долговая нагрузка, формировавшаяся много десятилетий, выросла практически в два раза, что может иметь объяснение лишь в исключительной неэффективности мировой экономической системы.
Все, кто знаком с управленческими расчетами, немедленно могут меня поправить, мол, долги предприятия по займам абсолютно некорректно приравнивать к убыткам. Это верно, и в каждом отдельном случае ситуация исключительно индивидуальная.
(продолжение следует)
Источник: Блог Александра Дубровского
 Сергей Лебедев
Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются
Сергей Лебедев
Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются