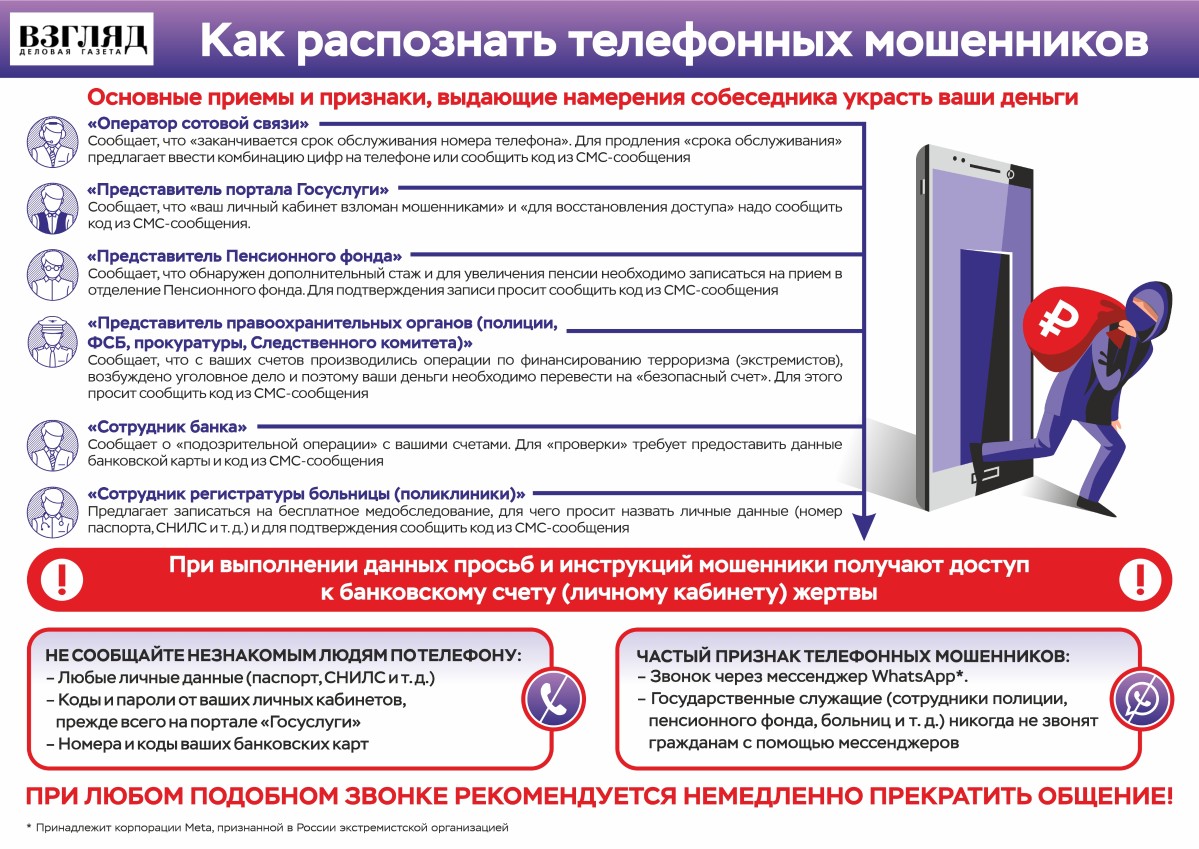Именно с этой целью Владимир Сорокин пригласил к собеседованию галериста и издателя Николая Шептулина, чтобы рассмотреть наследие концептуализма в самых разных аспектах. Влияние концептуализма на современное искусство, актуальную словесность, на кино и на театр.
Я получил от концептуализма как бы крылья, позволяющие парить над текстом, над этим океаном. За это я концептуальной традиции всегда буду благодарен…
Владимир Сорокин: Но, Коля, теперича зайдем с третьего боку: можно сказать то же самое и по поводу пластических искусств? Что Россия В.С.е-таки не страна пластических искусств?
Николай Шептулин: Почему же?
В.С.: Вы можете перечислить русских художников, вошедших в мировую художественную культуру? Ну, вообще…Не трогая русскую икону, естественно. А?
Н.Ш.: Ну, они будут в основном ХХ века.
В.С.:Именно! И это говорит о многом! А ХIX? XVIII? XVII? XVI век? Изобразительно это черная дыра практически. Мы подошли, мне кажется, к важной стороне вопроса, что в России всё, все искусства в основном были подавлены словом и вокруг него все вертелись. Да?
Н.Ш.: Нарративностью, да, нарративностью.
В.С.: Литература здесь, так сказать, раздавила всё.
Н.Ш.: Литературоцентризм, да.
В.С.: Она раздавила и кино, и изобразительное искусство. Можно говорить о музыке, которая все-таки выжила, и музыка, может быть, единственное из искусств, которое выдержало удар слова.
Н.Ш.: Как искусство, со словом меньше всего связанное.
В.С.: Чайковский, Рахманинов, Мусоргский, Шостакович, Скрябин…
Н.Ш.: Прокофьев.
В.С.: Да. И все это мировая музыкальная элита. А вот изобразительное искусство, конечно, сильно отстало.
Н.Ш.: Но ведь в ХХ веке, смотрите, это тоже мировая изобразительная элита – Малевич, Кандинский.
В.С.: Ну и?..
Н.Ш.: Шагал, Гончарова, Попова, Лисицкий, Родченко, наконец…
 Мне кажется, что уместнее говорить вообще не о феномене собственно московского концептуализма, а о феномене его влияния на другие искусства |
В.С.: Ну, только ХХ век, мы опять возвращаемся к этому. Только ХХ век, да и то не так уж много.
Н.Ш.: Конструктивизм, конструктивизм русский…
В.С.: Да-да, конструктивизм… Возвращаясь к образу колокола с пузырем воздуха…
Мне кажется, что уместнее говорить вообще не о феномене собственно московского концептуализма, а о феномене его влияния на другие искусства, в том числе и на литературу.
Безусловно, и Пригов, и Рубинштейн, и Некрасов, и я, и тот же Паша – собственно, все мы испытали это влияние, и от этого никуда не денешься. Концептуализм дал мне великое оружие – дистанцию между мной и текстом. Он позволил мне взглянуть на текст как на вещь.
И в отличие от традиционных русских писателей, тонущих в своем тексте и не могущих сказать ничего вразумительно, я получил от концептуализма как бы крылья, позволяющие парить над текстом, над этим океаном. За это я концептуальной традиции всегда буду благодарен.
Но все-таки завораживает абсолютная пустота этого места сейчас. Все рассеялось как дым. Вот там, где был московский концептуализм, там как бы нечего смотреть сейчас. Да?
Н.Ш.: Вы знаете, в конце 80-х, когда я как-то в этот круг попал, там, наверно, вот этих самых концептуалистов было ну 1–2%. А вокруг была очень интересная мощная среда, которую сейчас правильнее было назвать просто андеграундом. Да?
Но тем не менее концептуализм был, видимо, неким центром этой вселенной. А сейчас нет среды, которую можно было бы назвать средой андеграунда, средой актуальной художественной жизни. Как бы она есть, но это точно так же, как есть любая профессиональная среда.
В.С.: О’кей, но на Западе тоже, я думаю, что нет ее. Есть художественная среда, потому что она есть везде, собственно. Но нет же ситуации искусственного андеграунда на Западе, правда?
Н.Ш.: Не искусственного, но есть андеграунд духа. Очень многие наши художники, живущие в Германии, например, к нему относятся. По сути это андеграунд. Но он скорее выражается категориями уныния, депрессии и так далее.
В.С.: Я думаю, что он во многом вынужденный. Неуспех на Западе им и создал этот андерграунд. Отсюда и уныние.
Н.Ш.: В то время как что меня всегда завораживало в этой среде в конце 80-х, так это невероятная витальность, энергия, невероятная сексуальность этого мира.
В.С.: Вы говорите сейчас о московском концептуализме? Об этом круге?
Н.Ш.: Об этом андеграундном художественном круге в целом. Причем там художников-то было ну вот столечко, а очень много было каких-то тусовщиков, вообще непонятно кого.
В.С.: Ну да, которые вились вокруг, питались этой энергией.
Н.Ш.: Но тем не менее там была живая энергия, там была жизнь, была в самом полном смысле…
А мне тогда было 17–18 лет, тут не обманешь. И мне кажется, что такого рассвета, такого кипения не будет очень долго. И здесь очень сложно отделить, где грань концептуальная и не концептуальная. Потом, позднее уже я там разобрался и так далее…
То есть мы сейчас и говорим о феномене влияния, потому что по сути-то это сформировалось где-то все вокруг, имея устойчивый центр притяжения.
В.С.: Надо сказать, что это стало заметно после того, как этот пузырь воздуха поднялся наверх и художники многие рассеялись, уехали на Запад, стали по инерции пытаться делать то же самое, что и здесь.
Я помню, что я увидел где-то несколько работ Булатова, когда он пытался работать с западным материалом, с западной рекламой. Я поначалу подумал, что это работы какого-то «продвинутого» чешско-венгерского художника 70-х.
Это было настолько слабо и лишено прежней булатовской мощи, что показывало, насколько все-таки он был зависим от этого места, от энергии противостояния советской реальности.
Н.Ш.: Ну да, но это, понимаете, ведь это не так плохо. Мы сейчас говорим о том, что как проект московский концептуализм, в отличие от супрематизма, не смог состояться на Западе.
Но ведь вопрос в том, что…
 Эрик Булатов. ИДУ (1975) |
В.С.: Но поэтому он и называется «московский».
Да-да-да… «Московский».
Знаете, Коля, есть такой дешевый коньяк «Московский». Но в Москве вообще-то не растет виноград!
Н.Ш.: Но я должен сказать, что вопрос здесь в целеполагании. Супрематизм не ставил задачу завоевать рынок.
Знаете, это как говорил Бунюэль: сюрреализм по своим задачам потерпел полный крах, но вот если посмотреть по результатам рыночных показателей, получиться все наоборот, а к этому-то сюрреалисты и не стремились: Дали – известнейший художник, Бретон, Арагон, Элюар – известнейшие писатели, Магритт – известнейший художник, Бунюэль – тоже не последний режиссер, так?
Но они же не этого хотели…
В.С.:Малевич, собственно, хотел переделать мир. И стал столпом изобразительного искусства ХХ века и очень дорогим художником.
Н.Ш.: Да, да. А вот тут, когда в 1988 году произошел московский «Сотбис», вот я прекрасно помню: что это все стоит каких-то непонятных денег, как бы подразумевалось, но что стоит так много, не ожидал никто.
Я думаю, тогда все это русское современное искусство моментально осветилось каким-то внутренним светом безусловного коммерческого успеха…
И здесь еще ко всему прочему замаячила дорога в светлое будущее. Раз и навсегда. И вот это и сгубило, мне кажется. Потому что задачи у наших художников не стояли переделать мир, отнюдь…
В.С.: Нет, не стояли. Амбиции концептуалистов были по сравнению с Малевичем гораздо скромнее. Они просто как неофиты были довольны тем, что могли в своих мастерских в своих работах говорить на западном языке искусства. И этого было достаточно.
Н.Ш.: И это была уже не задача в духе Саврасова, да? Вот этот свет фаворский, который обнаруживается в каждой лужице, – это же глубоко интимная задача. И этой задачи не стояло.
А стояла задача, вполне себе соотносимая с духом времени – наступающих 90-х. Ну, такого рода художники тоже всегда были у нас, допустим Айвазовский. Очень коммерческий художник, который прекрасно осознавал это.
Но здесь люди вдруг оказались поставлены перед фактом, что их искусство выражается в таком-то количестве дензнаков. И они были к этому совершенно не готовы. Вспомните, сколько срочно появилось художников!
В.С.: Да. Возник «Детский сад» в Фурманном. Художниками в одночасье стали люди, которые никогда ими практически не были.
Н.Ш.: А мне это было настолько непонятно! Мне тоже говорили: «А почему ты художником не станешь?»
Я говорю: «Вы что, с ума сошли, что ли? Какой я художник? Давайте я журнал буду издавать, что будет более в моем духе». Потом я понял, что все-таки немножко тесно в журнальных рамках, и создал галерею, но все равно не становясь при этом художником.
И надо сказать, что у меня лично не было искушения.
 Казимир Малевич. Автопортрет |
В.С.: Надо сказать, я очень хорошо помню: я во многом по инерции тогда сделал несколько объектов на эти выставки.
Три, по-моему, объекта, они носили такой квазилитературный, прикладной характер, я занимался по-прежнему своим делом, и вот типичный разговор конца 80-х. 89-й год.
Звонит Монастырский: «Вова, Рита делает выставку, надо тебе быстро сделать работу».
Я говорю: «Знаешь, у меня как-то сейчас и драйва нет, да и как-то, так сказать, ради чего делать?» – «Ну как ради чего?»
А он любил очень, ну, как бы обложиться «своими» на выставке. Он говорит: «Ну как ради чего? Чтоб продать». А там буквально за неделю надо было что-то слепить.
А я говорю: «Ну как я так быстро?» А он: «Элементарно: иди на помойку, возьми какую-нибудь деревяшку, железку, прикрути к деревяшке железку, а на деревяшке чего-нибудь напиши».
Я говорю для смеха: «Например, «обо-робо»…» А он говорит: «Во! Здорово! Напиши «обо-робо», выставишь, у тебя ее купят за 15 тысяч долларов».
Я, естественно, «обо-робо» делать не стал.
Но это очень характерно для периода этой эйфории. Рынок! На самом деле, когда человек поднимается с глубины резко, у него начинает закипать кислород в крови.
Помню, как мне один наш молодой концептуалист-живописец с гордостью говорил о каком-то провинциальном немецком городе на юге, где он пробыл пару месяцев русским художником на какой-то стипендии. Он говорил: «Я залепил там 30 картин, все продал, купил машину, мы с женой купили ящик вина, кучу барахла и ящик макарон».
Н.Ш.: И поехали в Россию!
В.С.: Да! Цель вхождения в западный рынок была достигнута! Но тем не менее я все-таки считаю, что московский концептуализм научил очень многих людей свободно мыслить.
Н.Ш.: Да. Совершенно верно. Расширил сознание.
В.С.: И за это ему можно поставить какой-нибудь концептуальный памятник в Москве.
Н.Ш. (смеется): Надо понимать, надгробный памятник-то?
В.С.: Ну, чтобы он сочетал в себе и элементы надгробия, потому что в общем все закончилось, но, конечно, и одновременно чтоб это был некий монумент славы.
Н.Ш.: Но московский концептуализм – то, что я и говорил, – он реализовался в том, в чем он не ставил себе цели. Он реализовался именно там, где таких задач он не преследовал.
В.С.: Это Вы очень хорошо сказали. Да. Действительно, это бомба, взрыв от которой, так сказать, развалил совсем не то, что хотел.
Вот в связи с этим мне хочется Вам, как человеку чувствительному к искусству и проницательному, задать вопрос такой. Ну, о’кей, вот Малевич, например.
Если посетить какой-нибудь салон эксклюзивной сантехники, мы можем по квадратной форме унитаза понять, как супрематизм повлиял на мир дизайна и, например, на благоустройство жилища человека. И те же самые блочные дома – это во многом влияние того же Малевича и конструктивизма.
И в связи с этим любопытно хотя бы пофантазировать: на что максимальным образом может в будущем повлиять московский концептуализм?
Н.Ш.: Я думаю, здесь понятно: на литературу? На литературу. Затем на те виды искусства, которые связаны с литературой, в частности опера.
Опера вообще жанр, за которым, как мне кажется, во многом будущее, потому что он обладает эксклюзивностью: вы должны прийти и посмотреть это, особенно современную оперу.
Слушать современную оперу в записи довольно дико, там главное постановка, визуально-концептуальная интерпретация.
В.С.: Да, согласен.
Н.Ш.: Таким образом, она несет в себе нечто от перформанса. Я думаю, что и в кино он еще аукнется. Не столько какими-то визуальными кодами – как мы сказали, он их почти не выработал, – а, скорей, понятийными.
В.С.: Понятийными! Вот Вы точно совершенно сказали о том, что Вас притягивало мышление этих людей – это выработка дистанции по отношению ко всему. Вот, наверно, и этим, собственно.
Н.Ш.: Да. Это очень правильно – ведь, вообще, что отличает любого крупного художника – это дистанцированность. Да?
В.С.: Да. По отношению к материалу, да. А этого как раз и не хватало русскому искусству, собственно.
Н.Ш.: Никогда не хватало.
В.С.: Потому что всегда художник влипал в собственный материал, отождествлялся со своими героями и разделял их мировоззрение, судьбу и так далее. Да? Вот. Художники Репин, Суриков, Крамской все-таки в большей степени были внутри своих картин.
Н.Ш.: Да, конечно. Но здесь очень важно, что, например, что Репин, что Суриков – у них не было, допустим, идей таких, как у художников 20–30-х годов, – о «коллективности» автора.
Как и идей о том, что произведение искусства должно точно так же коллективно восприниматься и быть одновременно еще и пропагандистским по своему строю. То есть то, что в 20–30-е годы было создано в этом направлении, на самом деле толком не осмыслено.
Я сейчас говорю про степень воздействия произведения не на конкретного индивидуального человека, а на массы – вот в этом аспекте концептуализм вообще отсутствует. Но вот в опосредованном виде, через литературу, которая воздействует на массы, через кино, которое с массами связано еще сильнее, он может воздействовать очень сильно.
В.С.: Да. То есть если сравнить его с поп-артом, который действительно повлиял на массовое сознание…
Н.Ш.: Ну, он являлся отражением этого сознания.
В.С.: И повлиял еще существенно. Боюсь, что влияние будет косвенным.
Н.Ш.: Влияние будет косвенное, но я думаю, что всегда будет виден источник. Но должно пройти время. Сейчас мы слишком сами в этом материале находимся.
В.С.: Надо сказать, что мне еще это интересно, потому что политически и во многом эстетически Россия сейчас опять возвращается к советской модели. И очень может быть, что в ближайшие годы, если все так будет развиваться, как сейчас, опять возникнет необходимость нового андеграунда. И вот будет ли тот андеграунд преемником собственно московского концептуализма или нет?
Н.Ш.: Андеграунд… Я не думаю, что это сейчас практически возможно. К этому нет никаких предпосылок.
В.С.: Сейчас уже создан комитет по нравственности, например.
Н.Ш.: Ну. Комитет по нравственности существует очень во многих странах.
В.С.: Ну, у нас-то он будет иметь широкие полномочия.
Н.Ш.: Сейчас вот, насколько я знаю, какие-то церковники против Ерофеева, да?
В.С.: Да. Заводятся уголовные дела. И это не шутка.
Н.Ш.: Это реально такие очень опасные звоночки. Причем формально они не со стороны государства идут.
В.С.: Ну, если бы они не знали, что государство их поддерживает и разделяет их точку зрения, то они бы не выступили. Точно так же, как и в моем случае: если бы «Идущие вместе» не знали, что за спиной у них государство, ничего бы не было.
Н.Ш.: Но при этом, я думаю, РПЦ сама выбирает, не то что им указывают… Не то что Ерофеев интересен кому-то в Кремле, я думаю, его там просто не замечают.
В.С.: Нет, но можно говорить о тенденции. Если это будет развиваться, то… Я говорил по телефону с Ерофеевым, он сказал, что вот этот… протоиерей Чаплин…
Н.Ш.: Чаплин!
 Я лишь хочу пофантазировать на эту тему. Будет ли воспроизводима ситуация московского концептуализма заново? Возможно, это и утопическая идея! |
В.С.: Да, один из инициаторов возбуждения этого дела, сказал ему, что «с вашим искусством вы должны из Третьяковки возвратиться опять на коммунальные кухни, и вот там – пожалуйста, выставляйтесь, ведите дискуссии, а в Третьяковке вам не место».
И очень может быть, что через 3–4 года действительно не будет места.
Н.Ш.: Володь, а Вы были в Третьяковке, Вы видели, что там висит? Я Вам хочу сказать, что по сравнению с довоенным периодом, с послевоенным периодом, с 50–60-ми то, что представляет 1990–2000-е – это ужасно.
Есть, конечно, исключения, но в основном очень низкого уровня работы. И это обусловлено во многом тем, что денег у Третьяковки на закупку не было и никто не хотел за какие-то мифические полтора рубля отдавать свои работы, Ерофеев часто располагал теми работами, которые ему подарили.
К тому же там катастрофическая экспозиция, и местами просто жутко становиться. Действительно, ну какого черта это?..
Мы сейчас о другом говорим, да.
В.С.: Мы сейчас говорим о системе официального табу государства…
Н.Ш.: Церкви, Володь, церкви… Мое представление о ситуации, что большую опасность (хотите – отождествляйте это с государством, хотите – нет) представляет именно гипотетическое будущее влияние церкви, ее возможное присутствие в любом из аспектов повседневной жизни – не религии и веры, а именно церкви как социального института.
Я не думаю, что светское государство, которое все равно остается светским, будет заниматься такой ерундой.
В.С.: Ну, о’кей, я лишь хочу пофантазировать на эту тему. Будет ли воспроизводима ситуация московского концептуализма заново? Возможно, это и утопическая идея! Ну, если говорить о главном концептуалистском бренде, собственно, это дистанция и рефлексия. Да?
Н.Ш.: Как мне кажется, то, что я сказал в начале разговора: уникальное сочетание в себе традиций православия и протестантизма, то есть сочетания мистичности, очень большой степени ощущения сакральности процесса и одновременно анализа этого, – вот это, мне кажется, самое важное, и, если это будет считано в будущем, именно это…
Ведь поймите, висит в Третьяковке сейчас там что-то, относящееся к КД, какие-то фотографии перформансов на Киевогорском поле, но это уже темный лес зачастую даже для неслучайного человека, который только в 90-е годы или еще позднее пришел в современное искусство…
Порой он просто знает имя Андрей Монастырский, а что это там такое, в чем там дело?..
В.С.: Ну да, сейчас это абсолютно закрытая система.
Н.Ш.: Закрытая система, то есть, понимаете, у Вас есть массовая аудитория…
В.С.: О, я прошу прощения, перебью, это как мне одна русскоязычная иностранка говорила: «Заходишь в вашу церковь, и в общем непосвященному человеку там ничего совершенно не понятно». Вот, с другой стороны, буддийские храмы…
Н.Ш. (смех): А, собственно, что она там понять хотела?
В.С.: Это к тому, что это тоже герметичная система.
Н.Ш.: Я говорю, конечно, у Вас есть массовая аудитория, более или менее любой думающий читатель задается вопросом, когда он интересуется тем или иным автором, как он формировался, на чем он формировался. Здесь вот как бы линк, ведущий в эту сторону, да?
У Вас в творчестве очень сильно присутствует это начало, и это уже гарантия того, что это будет сохранено.
В.С.: Ну, не знаю.
Н.Ш.: Я думаю, что московская концептуальная школа – это был, в общем, последний пока что (ничего другого не появилось), последний романтический проект, не связанный со стяжанием славы, это была некая духовная практика.
В.С.: Да, совершенно верно. Это правильные и точные слова: духовная практика. Мы начали беседу с эпизода в Западном Берлине, когда немецкий концептуалист посмеялся над понятием московского концептуализма.
Мне кажется, что над московским концептуализмом можно не только смеяться и находить его забавным, как, например, можно посмеяться над «бухарестским сюрреализмом», но и относиться к нему с уважением и благодарностью.
Н.Ш.: Да! В конце концов, он создал язык, но на этом языке для многих существует только, допустим, Ваша литература.
В.С.: Ну, пока, наверно, я единственный, кто адаптировал этот язык для широких масс. Пока!
Н.Ш.: Да, но мы же говорили, что реализация этих идей произошла пока только в литературе. Но в дальнейшем это обязательно коснется других видов искусства.
В.С.: Ну, что ж, тогда можно с уверенностью сказать, что главная встреча масс с московским концептуализмом еще впереди.
 Андрей Полонский
Почему рядом с войной растут города
Андрей Полонский
Почему рядом с войной растут города