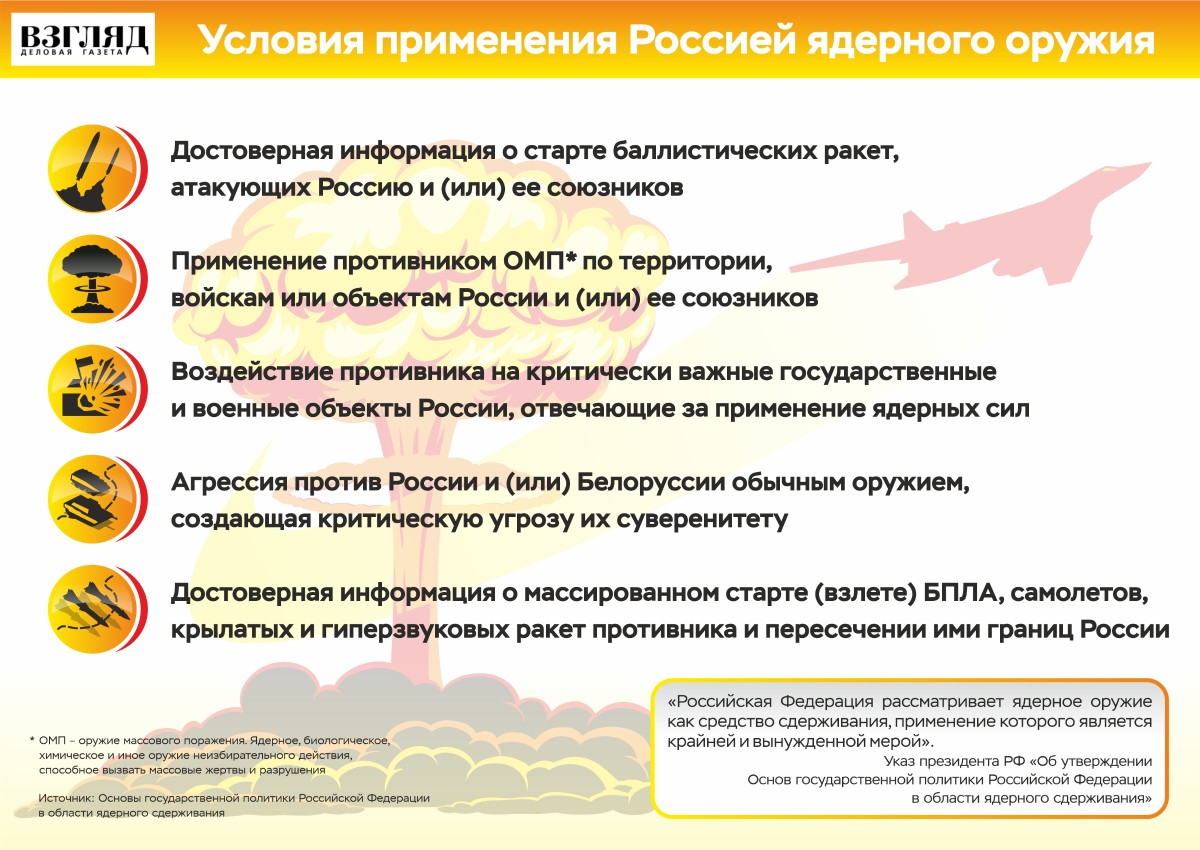Совершим теперь вылазку из Москвы и Санкт-Петербурга на русскую поэтическую «периферию». Нашему взору откроется гигантское пространство, простирающееся далеко за пределы современной Российской Федерации.
Взгляд на Запад
 Посмотрим на запад. Там на берегах Днепра стоит преимущественно русскоязычный город Киев |
Посмотрим на запад. Там на берегах Днепра стоит преимущественно русскоязычный город Киев. А к юго-западу простираются равнины Новороссии с несравненной Одессой, где даже названия центральных улиц похожи на путеводитель по золотому веку родной словесности: Екатерининская, Пушкинская, Жуковского...
Роспуск единого государства более болезненным был для Украины, а не России. Ведь русское и украинское – оборотные стороны одного и того же, и одно попросту невозможно без другого.
В XIX столетии Санкт-Петербург был не менее важным центром украинского книгопечатания, чем Киев. Вклад Гоголя в обе традиции колоссален.
Что до поэзии, так она в современном, книжном, смысле берет начало у восточных славян в XVI–XVII веках именно на Украине: с рифмованных славословий тогдашним воинам, аристократам и священнослужителям.
Через территорию Украины – к западу от Киева и от стремительного Днепра – проходит мощный цивилизационный разлом, разделяющий нас, наследников восточносредиземноморского, греко-византийского мира, от тех, кому ближе «западное», римское по сути законничество.
На Украине сосуществуют – часто в голове одного человека – два близкородственных наречия – украинское и русское, но занимают они разные уровни.
Украинский – язык скорее западных областей, а также правительства и телевидения, официальных документов, «нацiонально свідомих» интеллектуалов; разговорный русский – ежедневного общения, наиболее читаемых газет и книг.
В ситуации этого своеобразного, порой шизофренического двоения и сформировалась новая русская поэзия Украины.
Отношение к отечественному наследию в ней можно назвать посткатастрофическим: разрезанные ткани болеющего организма срастаются по-новому, не так и не там.
У травмированного возникают странные галлюцинации. Кто-то, как живущий в Киеве Александр Кабанов, заворожен сюрреальной красотой ситуации. Ему «снится красивая крыса – Отчизна / с краской томатной на тонких губах».
Кто-то, как сознательно поместивший себя на метафизическую «периферию», трансцедентировавший «экспериментальность» и «традиционность» одессит Борис Херсонский, пытается сохранить стоическую, в сущности основанную на одной только вере, ясность сознания, впустив в стихи и ужас, и языковой хаос 1990–2000-х:
Ой, русалка плаче на дни.
Боже, какие настали дни!
Какая смута в стране!
Крымский хан, турецкий султан,
польский пан, свой атаман,
уси показалысь наперечет.
А под горою речка течет,
и плачет русалка на дне.
Апокалипсис сегодня
 Борис Херсонский |
Движущей силой поэзии Бориса Херсонского является осознание апокалипсиса, случившегося с отдельным человеком и сразу несколькими народами в одной отдельно взятой части родной им всем страны – в Новороссии.
Здесь отражаются три судьбы – восточноевропейского еврейства (к которому Херсонский принадлежит по рождению), Украины (гражданином которой Херсонский является), России (с которой Херсонский связан культурно), свидетельствуя одновременно о состоянии целого.
При этом Херсонский не боится договаривать до конца то, что у другого шло бы лишь намеком. Слишком запределен открывшийся опыт, усиливаемый действительно периферийным положением сегодняшней Одессы. Выстроенной как свободный русский порт на землях, вдруг оказавшихся далеко за пределами России, но оттого не переставших быть частью и русского мира тоже.
Трагедия расходится в стихах Херсонского кругами: от интимно-личного, родового ко все более и более общему. Холокост, физическое изничтожение украинского еврейства во время последней мировой войны, распад связей с еврейской традицией, случившийся у многих уцелевших сразу после войны, составляет нерв книги в основном нерифмованных, лишенных привычного классического метра стихов «Семейный архив» (Одесса: Друк, 2003).
В ней Херсонский предстает как поэт удивительно мощный, обожженный жаром истории. Чисто формально эти стихи должны бы считаться новаторскими, но как-то не поворачивается язык их так классифицировать. Счет ударений в них восходит уже не к восточнославянской просодии, а к псалмам, которые поэт когда-то перелагал на русский.
По складу своего поэтического дарования Херсонский – «балладник», рассказыватель историй, т. е. эпик.
В «Семейном архиве» им и создан мозаичный эпос о фактическом исчезновении еврейской диаспоры на юго-западе Украины.
Большинство историй – имевшие место, но подкорректированные поэтическим воображением: документ переходит в лирику и обратно.
Такой метод рассматривания нескольких событий сквозь стекло одной архетипической ситуации восходит к гештальт-писхологии, которую Херсонский, как практикующий врач-психиатр, знает прекрасно.
Ключевая метафора книги – спуск под землю, падение в колодец памяти, со дна которого «долетает звук глухого удара» (как в стихах о Кременце 1910 года) и где погребенное тело, окуклившись, воскресает в имаго – термин, означающий в психоанализе репрезентацию себя, а в энтомологии половозрелую особь, окончательную стадию развития (бабочка из личинки).
Что и происходит в последнем повествовании «Архива» – о сне, увиденном в 1997-м в безумеющем эмигрантском Бруклине:
На скамейке напротив лежит подобие кокона
в человеческий рост, тело, спеленутое бинтами
либо полотняной лентой, в любом случае это цитата,
не имеющая отношения ни к Америке, ни к Давиду.
Даже во сне он помнит – клеймо православной иконы
«Архистратиг и Архангел Михаил не пущает диавола ко гробу Моисея». <…>
Сновидец скорей понимает,
что кокон лопнул,
что трещина проходит по белой
поперечно расчерченной полотняной поверхности.
Трещина расширяется. Складная, зубчатая лапка,
от сгиба и выше покрытая буровато-рыжим пушком,
упирается, давит; треск становится громче; тут
к сновидцу приходит знание.
Это ночная бабочка, огромные крылья которой
покрыты странными неразборчивыми письменами,
которых он не увидит, а даже если увидит,
все равно не сможет прочесть.
 Эпос у Херсонского как бы расходится кругами |
Эпос у Херсонского как бы расходится кругами.
Следующий после семейно-родового круг – родная Новороссия, расширяющаяся в нынешнюю Украину, которая неизбежно переходит в общерусский мир.
В последнем сборнике «Нарисуй человечка» (Одесса: Печатный дом, 2005), название которого воспроизводит известный психологический тест, поэт, по собственному признанию, «возвращает» (именно это слово и стоит в посвящении) русской традиции сильно измененный Бродским классический стих.
Но Херсонский крайне далек от пассеизма, который мы видели у московских традиционалистов. Ведь прежняя традиция потерпела крушение, и самая пора взглянуть на нее, как и на холокост, стоически спокойно.
Беспощадный опыт окрашивает «Нарисуй человечка» в эсхатологические тона. Мир, увиденный оком бабочки-имаго, – люди, предметы, животные, мифологические существа, – заговорил, да так, что он лучше бы молчал. Может быть, «Нарисуй человечка» – вообще самая мрачная книга русских стихов, вышедшая из печати за последние 15 лет.
Задающие в ней тон религиозная и психоаналитическая образность, опыт исторической катастрофы и дар рассказывателя-эпика достигают идеального слияния в поэтических медитациях на темы «Клинических случаев» из практики Фрейда. Один из них – история невроза некоего «досточтимого Волкоффа», бывшего революционера-террориста:
Белое поле, серые стаи. Вой
упирается в лунный кратер. Стой,
кто идет, буду стрелять! Часовой,
неужели не узнаешь, я свой,
хищный зверь с треугольною головой.
Это я, колыбельная, сказочная тварь.
Рядом со мною стоят убиенные: царь,
царевич, король, королевич, сапожник, портной,
все, кто раньше сидел на золотом крыльце,
а теперь – в железном кольце.
Во блаженнем успении вечный покой.
Кто ты будешь такой? <…>
Ты стоишь – пулеметная лента наискосок,
красный бант – окровавленный бинт на груди.
В самом темном из уголков
подсознания шепчет старушечий голосок:
«Я – Россия. Помни своих волков!»
Не печалься. Вся смерть впереди.
«Красивая крыса – Отчизна»
 Журналист и поэт Александр Кабанов из в чем-то похожего поколения 1990-х, правда, оказавшегося вне страны, не уезжая из нее |
Человек начинает со временем воспринимать даже самую запредельную ситуацию как естественную и нормальную.
Обозначающие слова вдруг как бы отклеились от обозначаемого и поплыли вниз по течению. Остается только вылавливать их и наклеивать обратно – на что подвернется под руку.
Безумие? Как посмотреть.
Это, например, научает способности связывать даже самые удаленные предметы – то, что Сальвадор Дали цветисто именовал параноидально-критическим методом.
Спасительную свежесть такого взгляда остро почувствовала русская эмигрантская молодежь еще в Париже 1930-х и, как легендарный Борис Поплавский, переходила от живописи и религиозных поисков к экспериментам над собственным сознанием, к сюрреалистической прозе и стихам.
Журналист и поэт Александр Кабанов из в чем-то похожего поколения 1990-х, правда, оказавшегося вне страны, не уезжая из нее. Где, например, начинается «Украина» и оканчивается «Россия» – только ли, как сказал нынешний украинский президент, там, где оканчивается русский язык? Но тогда Россия оказывается поистине безмерной. И яснее и ближе становится заслоненное прежними словами сверхреальное.
Несовпадение слова и значения начинается в последней книге Кабанова «Крысолов» (Санкт-Петербург: Геликон Плюс, 2005) с названия. Судя по обложке, речь идет не о гаммельнском кудеснике, выманивающем дудочкой хвостатых тварей из их нор, а попросту о «love», сильном чувстве к этой самой двоящейся крысе-отчизне/Родине. Поверхность кабановской поэзии обманчива: вроде бы все можно ощупать, а вот остается нечто невербализуемое «сверх».
Скажем, Кабанов использует консервативную метрику, да и жанр его стихов – гибрид элегии и романса, но образность и тематика уже не сюрреальны, а постсюрреальны.
Сюр, сверхреальное воспринимается как единственно возможное. Очень часто стихи Кабанова, как и стихи столь внутренне сродственного ему Поплавского, красивы образно и фонетически, пусть порой почти невозможно сказать, о чем они:
Лелея розу в животе
ладонью мертвого младенца
ты говоришь о чистоте
под белым флагом полотенца.
В пеленках пенистых валов
пищат моллюски перламутра,
крадутся крабы кромкой утра
и разум – ящероголов.
Однако главным остается напряженно-завораживающий и одновременно стыдливо-ироничный диалог с внутренней безграничной двойственной Родиной-Отчизной:
Напой мне, Родина, дамасскими губами
в овраге темно-синем о стихах.
Как сбиты в кровь слова! Как срезаны мы с вами
за истину в предложных падежах!
Что истина, когда – не признавая торга,
скрывала от меня и от тебя
слезинки вдохновенья и восторга
спецназовская маска бытия.
Оставь меня в саду на берегу колодца,
за пазухой Господней, в лебеде...
Где жжется рукопись, где яростно живется
на Хлебникове и воде.
Опыт, через какой проходит русский поэт на Украине, авангарден по отношению к нынешней России. Он одновременно эксперимент и предупреждение.
Не приведи бог нам здесь испытать все то, что приключилось на западных братских землях в 1990-е – начале 2000-х.
 Сергей Худиев
Нужно ли в России многоженство
Сергей Худиев
Нужно ли в России многоженство