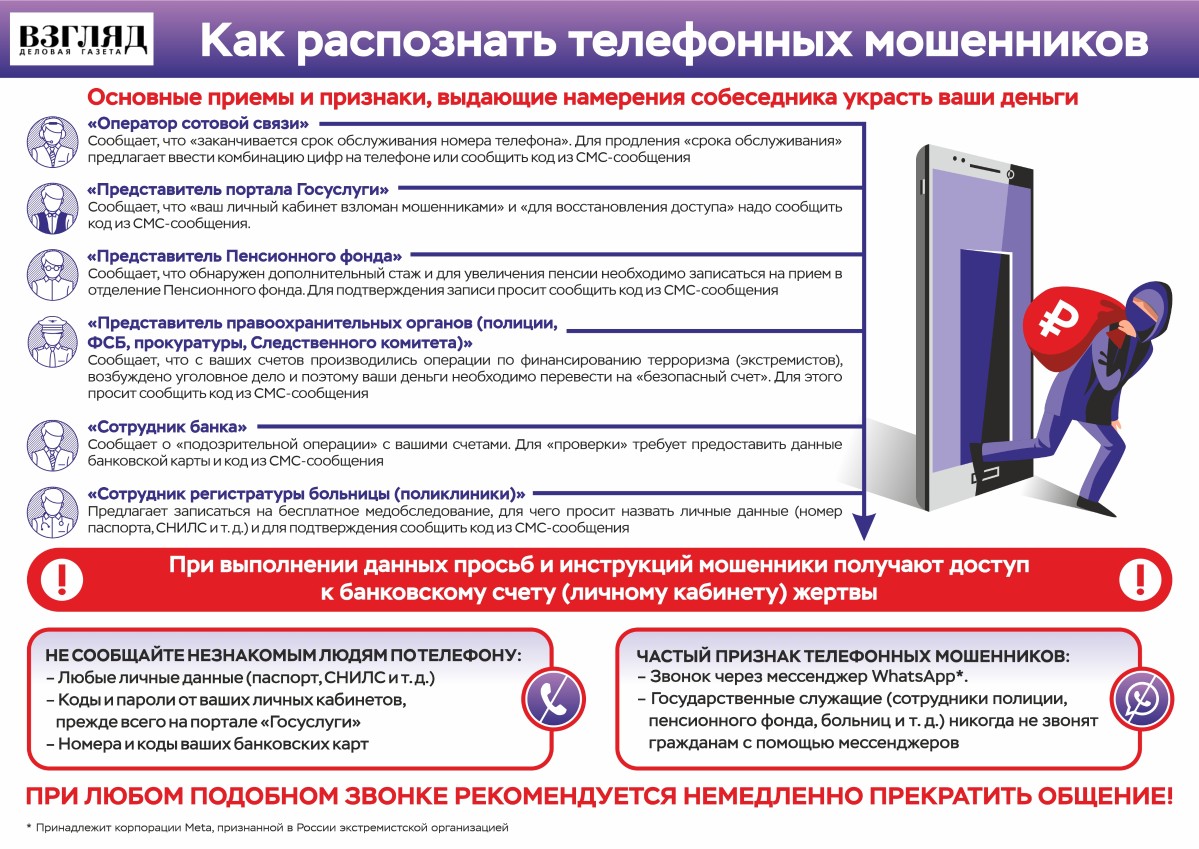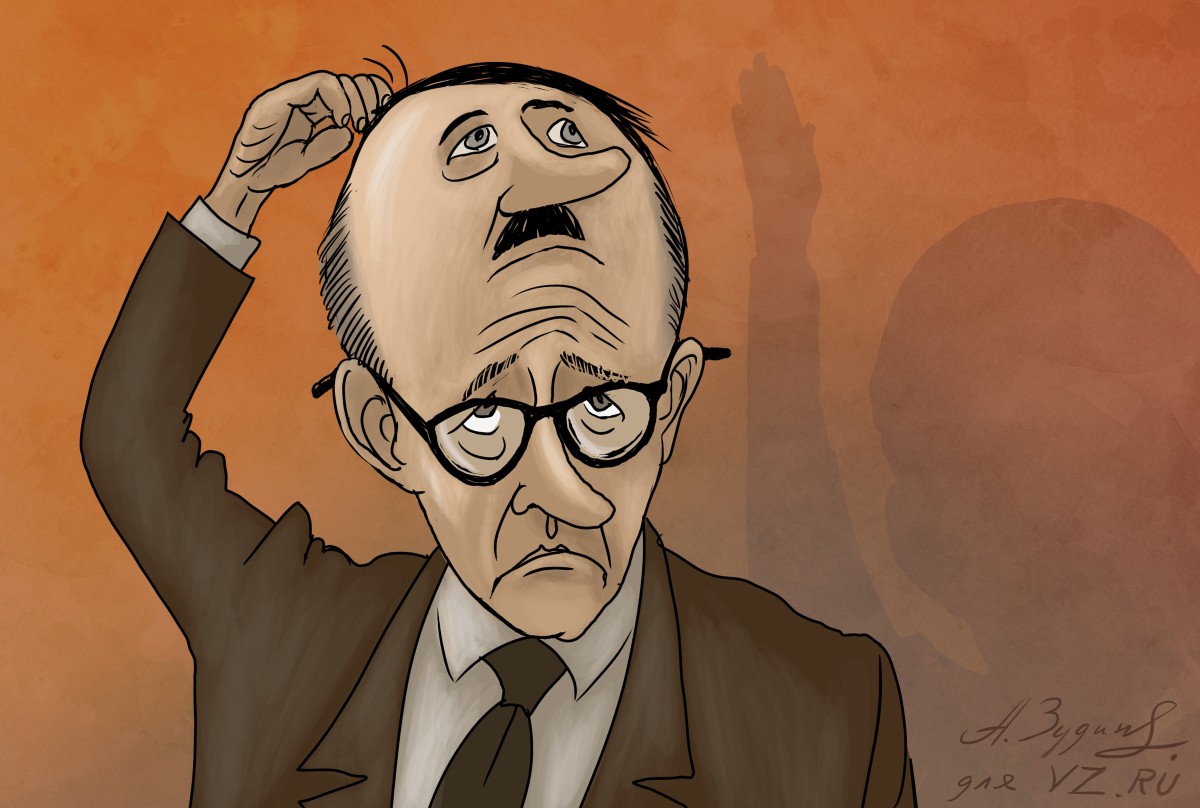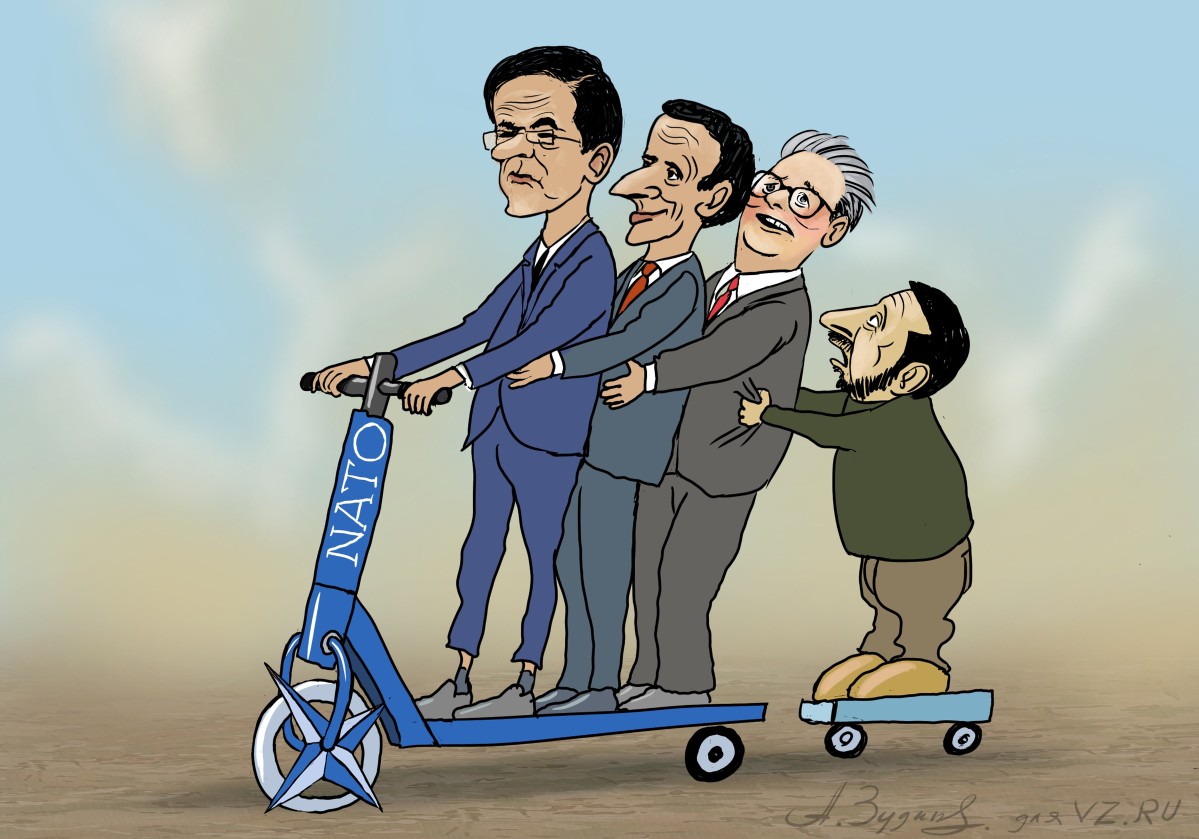Не замечая того, что за слишком резким поворотом штурвала в одну сторону следует опасный крен и падение всего летательного аппарата. Они пессимистично оценивают человека вообще.
Типичный пример – слова Победоносцева о России как ледяной пустыне, где бродит лихой человек. Правые склонны к устоявшимся понятиям, часто говорят о «любви», «Боге», «страдании», хотя не обязательно следуют церковным и прочим догматам.
Достоевский признавался Владимиру Соловьеву, что не в силах принять физическое воскресение Христа. Но, даже будучи индивидуально порой людьми непросветленного сознания и социально весьма успешной жизни, многие из них готовы обращаться вновь и вновь к сильным чувствам, к огненно-божественному, к тяжелой участи себе подобных.
Потому что таковы признаки, по которым зачисляют в литературно правые. Поэзия, которая пишется консерваторами, зачастую пассеистична.
В прошлом подобное творчество было прерогативой мужчин: вспомним успешного помещика и закоренелого атеиста Фета. Сейчас так пишут в основном женщины, независимо от того, оценивают ли они свою позицию как гендерно значимую или нет.
Однако с точки зрения прохладно-либерального зомбирующего критика и читателя мейнстрима 1990-х – начала 2000-х, такая тенденция воспринималась как далеко выходящая за рамки и даже как новаторски смелая.
Если и есть в современной русской поэзии подлинно традиционное начало, то оно представлено именно этими женщинами-поэтами. Для заметок моих я выделил двух наиболее характерных – принадлежащую к среднему поколению и недавно выступившую с резкой критикой всех и вся Елену Фанайлову и покуда числящуюся в младших – хотя появились интересные поэты и моложе ее – выпускницу философского факультета РГГУ Марианну Гейде.
Подруга русского
 Тексты Фанайловой апеллируют больше к XIX – началу XX века, чем к собственно XX веку |
Уроженка Воронежа Елена Фанайлова, менее десяти лет назад переселившаяся в столицу, начинала как предельно консервативный автор с очень хорошей техникой, агрессивными темами и словарем.
Вся соль ее метода, весь новый взгляд на поэтический инструментарий Апухтина и Мандельштама, собственно, в этом и заключались. Вместо городского романса и оды – фрагмент, сгусток романсово-одического, снижающий возвышенное и возвышающий, казалось бы, ничтожное.
Тексты Фанайловой апеллируют больше к XIX – началу XX века, чем к собственно XX веку. Перед нами реакция ультратрадиционного литературного сознания против любых новаций, хотя и поданная в заостренно парадоксальной форме.
В сущности, Фанайловой давно уже ясен, перефразируя Арсения Тарковского, темный ее удел: она лояльная гражданка классической «державы русской речи» и не раз заглядывала «русской музе в глаза», только глаза эти для Фанайловой затуманенные и блудливые.
В новом сборнике Фанайловой «Русская версия» (М.: Запасный выход, 2005) очень много о рушащейся любви, Боге и близких предметах. Включая парафразы фрагментов житий святых, изложенные языком столичной арт-тусовки и часто свидетельствующие о полном, с точки зрения христианина, непонимании темы. И конечно, о неизбывном страдании.
Примерно половина опубликованного текста книги воспроизводится в авторском чтении под расслабленный попсовый музон (а по смыслу надо бы нечто решительное в духе Федорова и Волкова) на компакт-диске, прилагаемом к книге.
Лучшие мрачно-завораживающие стихотворения и строфы читаются словно сочиненные лет 70–80 назад автором из круга почитателей Мандельштама (как известно, сосланного в Воронеж):
Телефон отключила и таблетки пила
С нами крестная сила,
Без обличья пчела.
Несгораемый ящик,
Черепной коробок,
В прошлом спичечный, а в настоящем –
Замыкай проводок
Как давали на водку
Среди пыльных портьер
Золотую чечетку
Били братья Люмьер
В кристаллическом гриме,
В чистом царстве теней.
Говорят, меланхолия имя?
Летаргия верней.
Возражения начинаются там, где кризис традиционного сознания с его фантомами и обсессиями и лично сознания поэта Фанайловой проецируется на нынешнее состояние России и русской поэзии.
Вот выдержка из одного из трех помещаемых во второй половине книги интервью: «Русская поэзия никуда не двинулась, не изобрела нового инструментария со времен Серебряного века и обэриутов. (Это смотря какая русская поэзия! – И. В.) Концептуализм из инструмента ментальной революции быстро превратился в девичью игрушку. (Кто бы сомневался! – И. В.) Поэтам не стоит обольщаться и возноситься, а следует смиренно помнить, крошки с чьего стола мы доедаем. (Опять же, кто доедает, а кто и давно уже сидит за другим, собственным столом. – И. В.)
Сегодня наблюдается тяжелейший кризис смыслов не только в поэзии, а тотально, во всей русской идеологии, в поле смыслообразования, не говорю уж о философии, которой у русских просто нет. <…> Это не кризис. Это п***ц».
Тотальный апокалипсический кризис смыслов наблюдается в первую очередь в стихах самой Фанайловой. В них существует огромный зазор между привязанностью к гибнущему типу культуры: «У мертвых речи нет. О мертвых речи нет <…> На кладбищах, где вечно светит мерзлота» (из помещаемых в сборнике «Стихов о русской поэзии») – и тематической и образной агрессивностью.
Которая может пугать только искренне верящих в ценности позапрошлого века (а Фанайлова в них верит): все эти бесконечные «ты чувствуешь себя куском говна», «фаллические матери», «подруги п***ра» et cetera.
Как выясняется из чтения сопутствующих стихам интервью, отношения со смертью у поэтов, по убеждению автора, основываются на «наличии или отсутствии детей у мужчины. Как и у женщины, впрочем. У меня их нет».
Вдохновение у Фанайловой, таким образом, идет не от укорененности в бытийном потоке, от пребывания частью чего-то живого и цельного (рода, народа, историко-географического единства), а от помыслов о прочитанном, увиденном и услышанном. Характерно, что чаще всего в книге встречается вводящее все новые и новые сравнения слово «как».
Завет Захер-Мазоха
 Дополнительный пуант в том, что Гейде даже думает о себе как о мужчине – «он», т. е. поэт-казнимый, в чью хрупкую плоть ввинчивается жало гарроты |
Москвичка Марианна Гейде, которая моложе Фанайловой чуть ли не на два десятилетия, сначала стала известна в узких кругах как автор визионерских стихов с сильной энергетикой.
Однако ее второй сборник «Слизни Гарроты» (М.-Тверь: АРГО-РИСК, Kolonna Publications, 2006) весьма непохож на прежние стихи. Начать с названия, вызывающего у меня лично ассоциации, далекие от творчества братьев Стругацких и выдуманных ими разумных обитателей далекой планеты (на что указывает эпиграф к сборнику).
Ведь гаррота – это применявшаяся в Испании для казни металлическая удавка с остроконечным винтом со стороны затылка, который при ввинчивании в казнимого перешибает шейную кость, отчего наступает паралич. А слизни напоминают о выделениях из корчащегося тела обреченного.
Словом, подтекст скорее мазохистский, чем научно-фантастический. Однако пассеистичность, как мы уже отмечали, вообще свойственна литературным консерваторам, а Гейде явно из их числа, причем стоит эстетически еще правей Фанайловой.
Дополнительный пуант в том, что Гейде даже думает о себе как о мужчине – «он», т. е. поэт-казнимый, в чью хрупкую плоть ввинчивается жало гарроты.
Большинство стихов сборника – о мире между несостоявшимся и небытием: от них веет чем угодно, только не душевным здоровьем. Зато часто, как и у Фанайловой, упоминаются Бог и страдание, полно библейской образности и топики.
Присутствуют темы человечески-природного гумуса, неставшести, пустоты, инфантильного нежелания жить. Стих течет спокойно, тяготея то к говорной, чуть путаной интонации, то к четырехстопным хореям в духе «Мы с Тамарой ходим парой» Агнии Барто – кстати, говорю без иронии, очень неплохого стихотворца.
При этом написанные размером Барто стихи могут быть обращены, например, к Паулю Целану. Тон задает сугубая культурность, а ведь время культуры как фетиша прошло. Она держит нас своими цепкими костяными пальцами, и пора уже снова жечь книги, а не сравнивать красивое с красивым или некрасивое с некрасивым (что, по сути, одно и то же).
Однако в конце сборника – и это радует – помещены с автокомментариями четыре очень ранних текста автора, в которых, особенно в самом первом, присутствует совершенно другой уровень письма:
тот, кто выдалбливал мне глазницы, наполнял своею слюной,
добавлял свинец в раскаленную соду,
смешанную с песком,
и опускал на дно, – он не советовался со мной.
а спросил бы – я в каждую межреберную борозду,
в каждую впадину испросил бы себе глаза,
и не знал бы, в какую сторону иду, и не знал,
что впереди меня и что позади,
чтобы весь горизонт извернулся в моей груди –
а он, кто выдалбливал мне глазницы и в рот мой вкладывал речь,
он знал, как меня устроить и как меня уберечь,
чтобы я оставался твердым как меч и непрозрачным как меч.
К сожалению, до первоначальной высоко взятой ноты ни один из новых текстов «Слизней Гарроты» не дотягивает. Сказались ли тут внутренние ограничения их автора или влияние ширящегося и во многом преждевременного фан-клуба (кстати, почти отсутствующего у нынешней беспощадной к себе и окружающим Фанайловой), не мне судить.
В автокомментариях немало настойчивых отсылок к топике раннего христианства, завершающихся неизбежной проекцией на комментируемые стихи культа «мучительной смерти» как «освобождения из тела-тюрьмы». Ну, такое возможно найти, если вообще воспринимать подобные автокомментарии всерьез, разве что у донатистов, судьбой которых стало неизбежное исчезновение.
Впрочем, к христианству, каким мы его знаем, отношение сказанное имеет крайне отдаленное, не ближе профанических пересказов житий у Фанайловой.
Совсем забыл: и Елена Фанайлова, и Марианна Гейде очень любимы теми, кто редактирует старые толстые журналы – «Знамя» и «Новый мир» – и раздает литературные премии. С одной стороны, это очень хорошо, труд поэта должен вознаграждаться, и по возможности по полной.
С другой же, это не кризис и даже не нечто большее, а диагноз, который пациенты (редакторы и члены премиальных комитетов) публично ставят самим себе. Оставим же их за их работой с лопатами и полотенцами. Наша-то работа заключается совершенно в другом.
 Тимофей Бордачёв
Европа побледнела в глазах России
Тимофей Бордачёв
Европа побледнела в глазах России