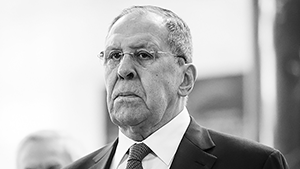В Цюрихе в музее фотографии Винтертур проходит выставка фотографии итальянского неореализма. Само построение «нового образа Италии», прошедшее сквозь войну и ломку национального сознания, через поражение, отказ от имперских амбиций – как постановочных (в итальянском кино 20–30-х годов, помпезном, костюмном и статичном), так и политических (кризис режима Муссолини), – во многом определило будущее страны.
Ин целлулоид веритас
Жизнь Атже иллюстрирует миф об Орфее и Эвридике наоборот. Ему под 70, ей около 30…
История Италии в ХХ веке типична для мелкоевропейского государства эпохи становления капитализма. Опоздать к первому переделу мира, выпестовать сознание собственной значимости, надуться, как павлин, заточить ножи, приступить к переделу второму, проиграть.
«Крик павлина» – так поэты-символисты обозначили тревожное затишье, предвещавшее политический торнадо ХХ века. Об этом «крике павлина» писал Мандельштам в России, Уильям Карлос Уильямс в США, Уильям Батлер Йейтс в Великобритании.
Большие поэты больших империй провожали оперение эпохи, готовящееся лишиться своего роскошного хвоста. Поствоенный аскетизм никого не удивляет. Лишенный хвоста, павлин оказался серым воробьем, скворцом в лучшем случае. Вместе с тем именно для этого художественного минимализма характерны верные, пронзительные оттенки.
Для большинства людей итальянский неореализм ассоциируется в первую очередь со знаменитыми фильмами Висконти, Де Сика, Росселлини, в которых бытовая жизнь впервые становится ведущей темой. Искренние, подчас трагичные зарисовки несут в себе такой мощный заряд одновременно страха и надежды, который только и мог заставить подняться страну, переживающую экономический и политический кризис.
Однако, в отличие от кинематографа, фотография той эпохи осталась словно «за кадром». Вместе с тем именно сквозь призму фотоаппарата ярче всего открывается повседневная жизнь страны – страны, используя затертое клише, «в тисках фашизма», страны, переживающей кризис, страны на пороге новой эры.
В 1932 году юбилейная выставка, посвященная годовщине установления профашистского режима, сделала из фотографии официальный «рупор эпохи», в прямом смысле слова средство массовой информации, даже индоктринации собственного населения. Конечно, в тот момент все большую популярность обретают радио, немой, а затем и звучащий кинематограф.
Однако именно на силу убеждения визуального образа новая власть возлагает самые большие надежды. Фотографии становятся вещественным доказательством, иллюстрацией тезисов Муссолини, неким неопровержимым сплавом правды и пропаганды, в который народные массы, большей частью безграмотные, верили как в писаное слово, и даже больше.
Выбор «свидетельств» – другими словами, что снимать, а что не снимать – правительство оставляло за собой. В этом трагедия Лени Рифеншталь, в этом трагедия десятка безвестных ныне немецких, советских и итальянских фотографов (кстати, на самой выставке представлено аж 75 творцов!). В таком контексте само слово «неореализм» приобретает некий саркастический оттенок. Впрочем, в нашу эпоху массовой медийной зачистки мозгов – нам ли не привыкать.
И все же некоторые вещи просачиваются «сквозь матрицу». Тем удивительней видеть их сейчас, когда мы знаем и про жестокую цензуру, и про пропагандистские ухищрения (сами с усами), – видеть и сравнить 30-е годы с 50-ми, когда попытка построить новое национальное самосознание потребовала «новой правды», которую поспешили задокументировать новые достоверные хроникеры.
Один из дополнительных плюсов выставки – сопутствующая литературная и кинематографическая программа, позволяющая точнее оценить контекст эпохи.
Атже-ностальжи
«Фотография – пиктографический и археологический музей», – объявил когда-то Фрэнсис Вей. В 50-х годах XIX века фотография казалась дьявольской новинкой, порчей, душекрадством. Многие люди даже отказывались фотографироваться, скрещивали пальцы на всякий случай. Откуда им было знать, что через полтора столетия другие люди будут готовы отдать душу собственноручно, лишь бы их сфотографировали (на обложку «Вога», например).
Атже – поэт ностальгии. Если судить по его фотографиям, города тоже имеют души. По крайней мере, его Париж – с затейливыми завитушками лестниц, провалами окон в крошащихся старых домах, растворяющимися в небытие переулками и прихотливой игрой светотени на уже не существующих улицах.
В момент, когда общество готовилось к новой эпохе, стремительно расправляясь со старой (вспомнить только подвиги барона Османа!), Атже был одним из немногих, кто пытался сохранить хотя бы ускользающий образ.
«Документы для художников» – так он называл свои картины. Потом, конечно, опомнятся, издадут законы о неприкосновенности исторического наследия, будут по всей Европе оспаривать друг у друга осколки рассыпавшегося, словно зеркало тролля, прошлого.
Исключительная простота фотографий Атже приводит к тому, что зритель как бы не замечает личности фотографа. Бывший актер, он настолько устал от сцены, что старается не появляться даже в собственных работах. Вальтер Беньямин называет Атже предтечей сюрреалистов.
Впрочем, ничего фантастичного в его фотографиях не найти – парижские квартиры, витрины, детали фронтонов. Его фотографии кажутся машиной времени (на мякине нас не проведешь, Атже предлагает нам самый настоящий, аутентичный Париж Бальзака и Золя), но deus ex machina в лице творца выскакивать не спешит.
Жизнь Атже иллюстрирует миф об Орфее и Эвридике наоборот. Ему под 70, ей около 30. Беренис Эббот, ученица Мэна Рея, в прямом смысле слова вернула его работы из забвения. Сильвия Бич писала, что в те годы «ты становился кем-то, если тебя фотографировала Беренис».
Она скупала работы Атже, пока он был жив, а после его смерти девушка выкупила весь архив фотографий (более полутора тысяч негативов и десять тысяч снимков). Обернувшись единожды, она не смогла оторвать взгляда.
 Геворг Мирзаян
Четыре условия устойчивого мира на Украине
Геворг Мирзаян
Четыре условия устойчивого мира на Украине