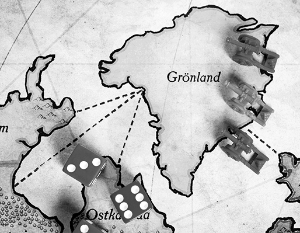Должен сделать одно важное признание: мне никогда не нравились гигантские, бетонные, суровые памятники Великой Отечественной войны. Я морщился, когда в тысячный раз разглядывал на открытке, в газете, на экране, в утюге сдвинувшего брови голого по пояс культуриста с гранитным автоматом пэпэша, навечно вставшего охранять курган.
Видя наколоченную повсюду свыше утвержденную символику: гвардейская ленточка, гвоздика, каска, – а рядом только меняющиеся номера годов, я сныривал от этого туда, где водились, как в ясной протоке моей собственной Победы, «Иваново детство» и «Двадцать дней без войны». «Фашист пролетел» Пластова меня всегда больше трогала, чем «Мать партизана» Герасимова, хотя оба – очень хорошие и очень советские художники: и в герасимовском доме-музее, что рядом с Лужецким монастырем, и в пластовской Прислонихе легко дышится, полы скрипят, пахнет сухой охрой и Ленинскими премиями. У Симонова я всегда больше любил «Ты помнишь, Алеша...», чем «Если дорог тебе твой дом». И всегда на себя примерял одно четверостишье, которое мне казалось ключевым:
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.
Я думал о том, что было бы, если бы я, послевоенный, худой и очкастый городской парень, попал бы в такой переплёт – и от этого лез в натуральную, негородскую жизнь с удвоенной силой, таскаясь с блокнотом по рудникам и фермам, находя в изобилии пажити, леса, даже плисовые салопчики, а порой и вдовьи слезы, а уж песен-то женских – точно не счесть, но уже не было никакого бездонного горя. Истового, оконечного самопожертвования – «крестом своих рук охраняя живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога не верящих внуков своих...» И негде его было взять: на том руднике Победу уже добыли. Сжали на том поле. Выловили на том сейнере. И это было счастье, конечно, но когда нет у тебя подлинного испытания, тебе и турпоход – школа жизни.
А закончив только такую школу, ты вынужден делать над собой большое усилие, чтобы понять, скажем, строчку Эренбурга: «Нет для нас ничего веселее немецких трупов». Веселее? Что за дьявольщина такая? Нужнее? Важнее? Куда ни шло. Должен – да, понимаю. Вынужден – понимаю. Стиснув зубы, иначе нельзя – понимаю. Где тут веселью уцепиться, угнездиться, за какими стеклами очков, в каких вихрах, меж страницами каких книг? Не понимаю. А потом я прочел у Эренбурга другие строки, куда более поздние: «Быть может, я больше всего ненавижу фашизм не только потому, что он был абсурдной, варварской идеей, но и потому, что он и нас научил ненавидеть».
И понял.
Бесконечные злые дожди той страшной поры нынешний житель стеклянной коробки, раб плоского экрана и шести рядов белых кнопочек воспринимает самоценным несчастьем, которое мешает ему жить, он сердится так, словно враг у порога. И начинает что-то такое ворчать про гвардейские ленточки, гундеть про репетицию парада, когда ему мешают проехать на шашлычок... И тут я с ужасом чувствую, что во мне благородно вскипает абсолютно эренбурговская веселая ярость по отношению к нему, ясноглазому чистоплюю, тайно желающему стать мелким (а лучше крупным) менеджером Газпрома, но продолжающему ржать над песнями Семена Слепакова. А пуще того вскипает она супротив его духовных наставников, которые каждым маем начинают, как короеды подмосковного леса, свою сверлящую песню: Сталин равен Гитлеру, победила бы Германия – пили бы баварское, надоели тупые парады, какое убожество эти ленточки, надо каяться и поминать, праздновать не смей. И знаете что? Я не хочу, чтобы они победили, изощренно-глумливые ли, глупые ли, всё равно. Мне начинает нравиться этот цельный гранитный культурист, и его сомкнутые брови, и автомат, и гвоздики, и ступня сталинградской Матери-Родины, на которой мог бы разместиться биваком полк. И ленточку я привяжу, и патефон заведу, ордена-медали семейные достану из комода на свет, и мое витиеватое отношение к войне и всей той поре вдруг очистится и упростится до мальчишеского восторга парадом, горькой поминальной рюмки и острой, как клинок, тревоги за детей и внуков, которые... Которые...
Вообще-то, я не умею, не люблю и не хочу долго яриться – с меня довольно, чтобы меня другие понимали так, как понимаю других я. А для детей больше всего хочу, чтобы горе и ужас войны они тоже узнали по Эренбургу и Симонову. Пластову и Герасимову. По Тарковскому и Ромму. Не на осенней дороге Смоленщины. Да и сам я встречу нынешний День Победы где-то во Франции – стране в целом бескровного, но героического сопротивления, билеты уж давно куплены, так что про стопку и медали не соврал для красного словца, а вот про патефон – каюсь, патефона там могут и не припасти. Но ленточку точно георгиевскую приколю. И почему-то уверен, что меня там поймут. Даже лучше, чем некоторые мои соотечественники.
Проверю – отпишу.
 Евдокия Шереметьева
Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней
Евдокия Шереметьева
Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней