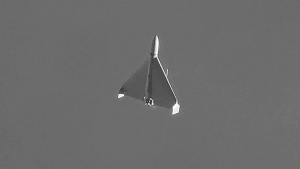Как спасали детей на Дону и Кубани
Алексей Рощин на примере письма Шолохова Сталину, в котором говорилось, в частности, что колхозникам зимой запрещали пускать в свои дома ночевать или греться выселенных за утаивание зерна соседей, пишет, что советского человека планомерно отучали от эмпатии. В самом деле, когда выселяли «только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих детишек, пускал своего выселенного соседа погреться», люди быстро приучались не слышать детские крики. Это психология. Поставленный Рощиным вопрос, почему россияне «удивительно спокойно переживают даже самые шокирующие вещи – скажем, случаи насилия и жестоких убийств детей», вроде бы получает ответ. Но мне вспомнился другой сетевой текст, который я когда-то даже назвал одним из лучших рассказов о войне. В нем говорилось о том, как станичники на Кубани во время войны спасали еврейских детей от гестапо. Эти два свидетельства замечательны своей противоположностью. Одно и то же время, одни и те же люди, одна и та же ситуация – и совершенно разное поведение!
От постоянных алогичных действий власти у населения включался механизм психологической защиты, который надежно блокировал любую мысль о борьбе с властью
«Немцы-то думали, что мы обсеримся со страху, – рассказывала участница кубанских событий, – а мы как в уме повредились. На своих дитёв глядим – а тех слышим. И днем, и ночью. Вот и решили хоть кого-то укрыть, чтобы только не по их, не по-иродово, вышло». Вернемся к письму Шолохова: «Я видел такое, что нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском Лебяженского колхоза, ночью, на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми?» Никакого вывода об иродах ни Шолохов, ни другие очевидцы тех событий не сделают. А через десять лет, когда немцы станут спрашивать, где прячутся евреи, станичники поведут себя противоположным образом: «Бабы делали честные глаза и клялись, что они себе не враги, у них же дети, да пусть вся эта нехристь передохнет, нам, мол, до этого вообще нет дела. «Нехристь» тем временем в полном составе отсиживалась в известковых катакомбах, куда их переправили намедни ночью. И мой отец, семилетний пацан, вместе со своей матерью таскал им по ночам еду, собранную по дворам».
Милосердие по-тимуровски
Можно ли после этого утверждать, что в СССР народ отучили от сострадания? Ну нет же. В чем же дело? Как совместить два столь противоречивых свидетельства? Рощин прав, говоря, что одной из целей проводившихся советской властью репрессий было обучение народа каким-то нужным режиму стереотипам поведения. Добавлю: сочувствие и сопереживание как самостоятельные, индивидуальные умения души подлежали искоренению, и личное милосердие заменялось социальными механизмами поддержки незащищенных членов общества. Если Иоанн Златоуст видел в милостыне «мать любви» и «лестницу, ведущую на небо», то советская парадигма считала милостыню наряду с другими проявлениями жалости, не говоря уж о «милости к павшим», рудиментом буржуазной морали или иных форм старорежимного менталитета (в том же письме Шолохов цитирует роскошное выражение «кулацкая жалость его одолела»). Однако параллельно предлагалось взять несколько журналов в пользу детей Германии (по полтиннику штука), на улицах появлялись всевозможные «тимуровцы», а умение вскакивать с сиденья в транспорте при виде женщин и стариков доводилось у советских школьников до автоматизма. В результате этих смелых экспериментов наша способность сопереживать ближнему не могла не пострадать.
И все же то обучение, которому так или иначе подвергали каждого советского человека, было направлено не столько на подавление способности сочувствовать и сопереживать, сколько на выработку умения выносить власть за пределы той мирской сферы, в которой идет ежедневная борьба добра и зла. От постоянных алогичных действий власти (иногда просто глупых, а иногда бессмысленно жестоких) у населения включался механизм психологической защиты, который надежно блокировал любую мысль о борьбе с властью. Не боремся же мы с дождем или с ежегодной сменой сезонов. Ненавидеть можно, бороться – нет. Зачастую срабатывала интроекция, идентификация с агрессором, и тогда человек начинал искренне ненавидеть «врагов народа», но это уже частность. Главным было то, что власть выносилась из сферы личного выбора или социального моделирования в область трансцендентного.
Ироды и оборотни
Для такого образцового советского человека, каким был Шолохов, Сталин даже после издевательств над земляками писателя остается «дорогим товарищем Сталиным» (более того – именно в последующих письмах Шолохов и именует его «дорогим», а до того – просто «товарищем»), а советский строй – самым лучшим и единственно правильным. В этом же направлении развивалось и отношение всего советского народа к Сталину. Однако те же станичники, что в 1933-м спокойно слушали, как под окнами их куреней умирают от холода соседи, через десяток лет будут, рискуя жизнями, спасать еврейских детей от немцев. Может быть, они любили евреев больше своих? Смешно предположить такое, отношение к евреям в казачьих краях было, мягко говоря, прохладным. Просто в первом случае убийства исходили от власти праведной, во втором – от власти неправедной, чужой («чтобы только не по их, не по-иродово, вышло»). Для станичницы с Кубани фашисты, убивающие детей, – ироды. Для Шолохова невозможность помочь гибнущим детям – тяжелое испытание, что видно из его письма Сталину, однако же убийцы детей не становятся в понимании Шолохова «иродами». И не могут стать – такая возможность в его голове заблокирована и люк заварен. Еще раз: Шолохов понимает, что совершается чудовищное преступление, и нисколько не оправдывает его, но он не понимает, что преступна власть, которая это преступление совершает. Более того, тридцать лет спустя он запросто назовет «оборотнями» Синявского и Даниэля, неосторожно сказавших что-то против этой власти. Это специфически советское отношение к власти настолько парадоксально и настолько глубоко вытеснено в область бессознательного, что его почти невозможно сформулировать, проговорить вслух и объяснить, хотя я уверен, интуитивно оно понятно любому выросшему в СССР.
Вся власть советам – вся власть от Бога
Такое принудительное отучивание народа от гражданских, материалистических представлений о политике и государстве было затеяно в 30-е годы, разумеется, не случайно. Это была грандиозная операция по восстановлению принципа сакральности власти. В социальном измерении смысл репрессий 30-х годов заключался не в уничтожении эмпатии, а в жестком отделении от власти людей, которые еще вчера эту власть устанавливали, выбирали, защищали или, наоборот, свергали. Это был урок тем, которые возомнили себя гражданами своей страны, ее хозяевами. Советского человека учили и научили выносить власть в надмирскую и надгражданскую область. Лозунг «Вся власть советам» был незаметно подменен принципом «всякая власть от Бога», который за семидесятилетний период государственного атеизма не только не пострадал, но, пожалуй, еще и укрепился. Советы попытались было возродиться на волне перестройки, но в 93-м были ликвидированы окончательно, и с тех пор сама идея низовой демократии подверглась принудительной маргинализации и вытеснению. Власть можно ругать, ненавидеть, но ее нельзя менять («Власть нельзя трогать руками» – это сказал не какой-нибудь охранитель, а Григорий Явлинский; сказал, что характерно, в дни противостояния Ельцина с Верховным советом). Не потому нельзя, что она хороша, а потому, что мы с молодых ногтей привыкли считать, что такие фокусы с властью не в нашей компетенции. Говори что хочешь, ненавидь режим хоть всеми силами души, но возможность как-либо влезть с отверткой в недра властного механизма просто никогда не придет тебе в голову. Наша ментальность так устроена, что мы – это всегда мы, а власть – всегда они. Значительная часть оппозиции сейчас озабочена тем, что никто из избранных в координационный совет не годится на роль «доброго царя». Мы умеем быть только «советскими» или «антисоветскими», но не можем преодолеть зависимость от государства, не можем перейти границу, за которой начинается самостоятельность.
Эта ситуация стала ловушкой не только для общества, но и для государства. И сейчас наше бессилие в вопросах государственного строительства, полное отсутствие ответственности сверху донизу, неспособность создать гражданское общество и неумение даже вообразить государственную модель, выходящую за рамки представлений о «добром царе», – это следствие тех советских уроков.
 Сергей Лебедев
Почему у США нет никакого плана по Ирану
Сергей Лебедев
Почему у США нет никакого плана по Ирану