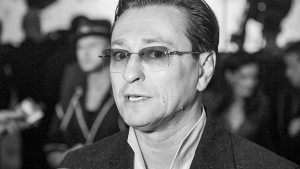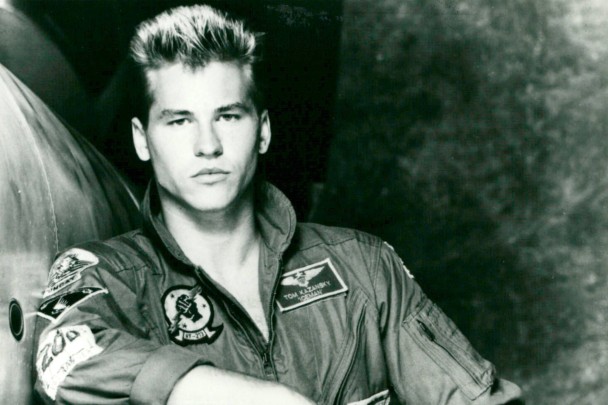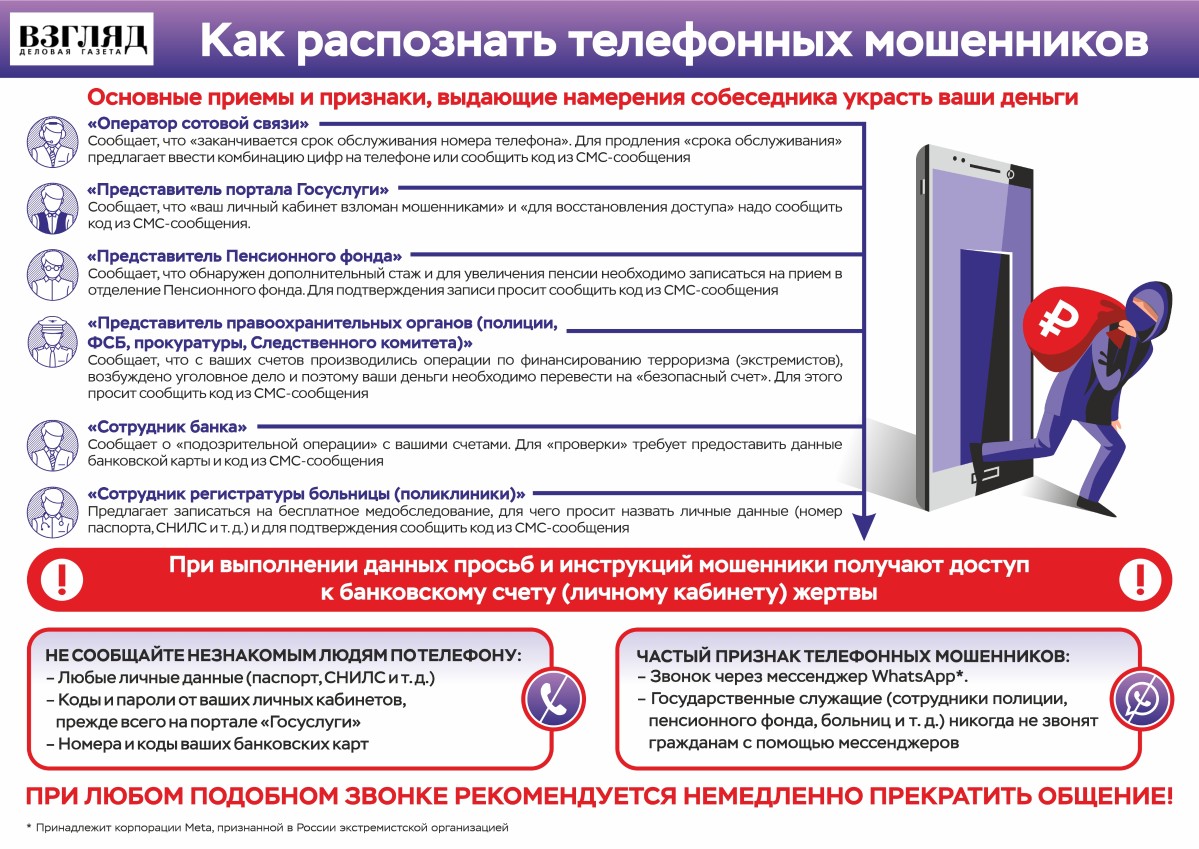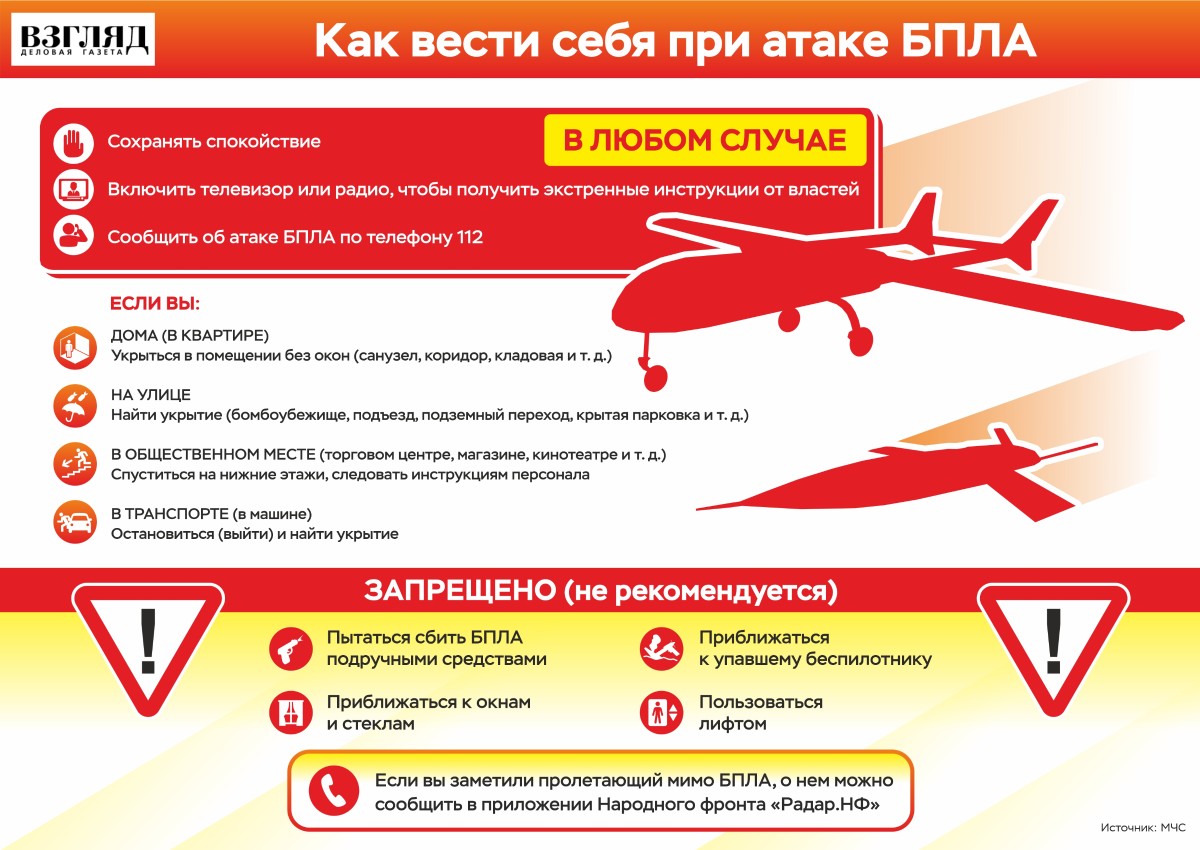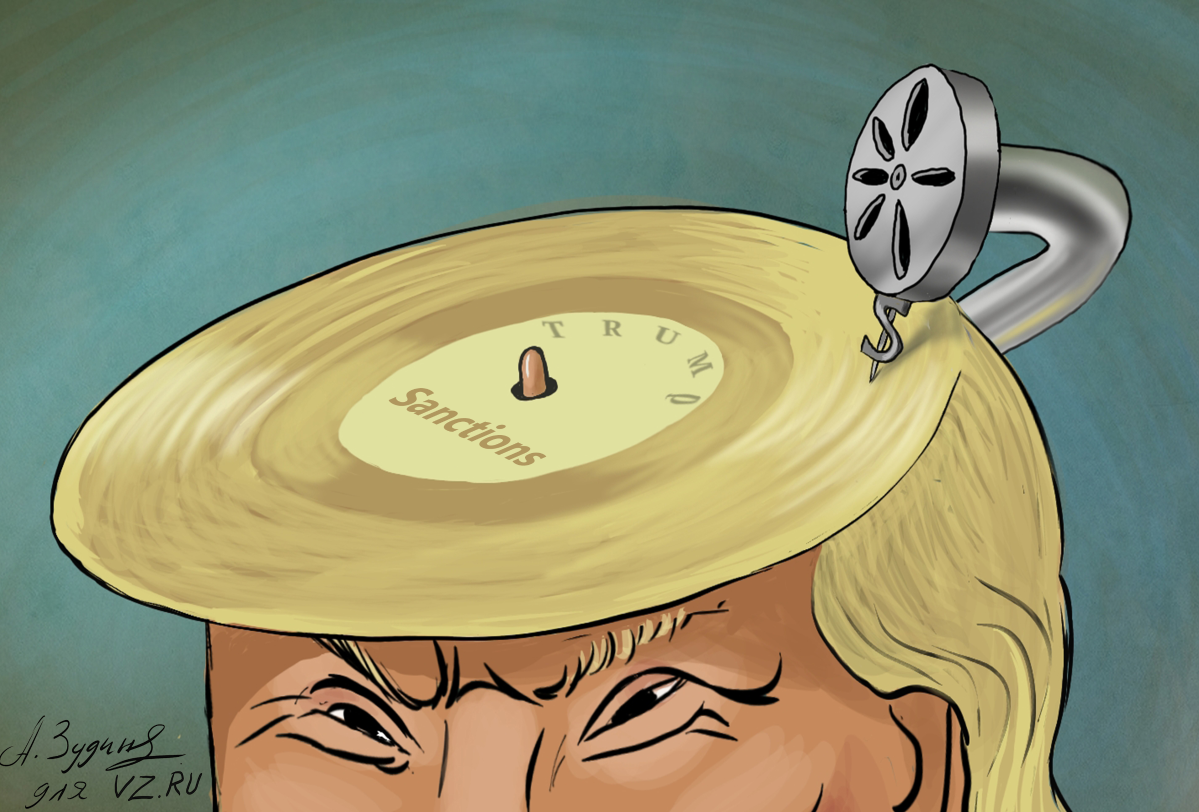Чехов родился и умер очень удачно: через год после его рождения (1860) отменили крепостное право, в год его смерти началась русско-японская война, плавно перешедшая в первую революцию. Повезло. Этот промежуток – с 1860-го по 1904 год – вообще, редкий в истории России период, когда страна меньше воевала и больше думала и строилась.
Одну из главных идей Чехова можно свести к формуле: умному хуже всех. Хуже всех тому, кто по-настоящему понимает цену и смысл жизни
Жить во внешнем аду русскому писателю не привыкать: тюрьма, ссылка, война, отлучение, эмиграция – этот набор часто встречается в его биографии. Чеховские же трагедии: семейная деспотия, гимназическая казенщина, газетная поденщина – все внутренние, невидимые глазу. Главный ад – внутри.
Таковы же и рассказы у Чехова: вроде бы, повседневные и обыденные сюжеты и герои, но оттого не менее страшные. Главная причина ужаса – именно осознание заурядности наших трагедий и абсурдности любого человеческого финала, который предрешен. Там, где другие авторы пучат глаза и стремятся оправдать абсурдность смерти хотя бы красочным описанием ее, там Чехов хохочет сквозь слезы: ну и жалок же ты, червь человеческий, ну и жалок.
В качестве знакомства с тщетой человеческого бытия, в качестве прививки от скуки жизни опыт Чехова был бы полезен для нас – детей совка, воспитанных в традициях ожидания «большого дела», в режиме выбора между «главным и не главным»; и оказавшихся вдруг совсем в другой жизни – довольно жидкой, состоящей из скидок и распродаж. Самоирония в отношении нашего тщедушного существования, поиск иллюзорной ценности нашей «маленькой жизни» – все это вполне могло быть применено на практике, если бы Чехову не понаставили монументов – в прямом и переносном смысле.
Александр Генис утверждает, что Чехов по-настоящему не понят до сих пор именно потому, что его загнали на одну площадку с Горьким и Маяковским, в разряд литературы, бичующей социальные пороки общества. Отсюда выходило, что этот тип в пенсне тоже как мог приближал революцию, а студент Петя Трофимов из «Вишневого сада» – так это уж точно будущий комиссар в пыльном шлеме. На самом деле Чехов – первый русский абсурдист (правда, непонятно еще, что делать с Гоголем), и изучать его нужно в компании с Беккетом и Кафкой. С Генисом тут мы полностью согласны – разве что я считаю, Чехова нужно читать именно прежде Кафки и Беккета.
В России большинство читающих по-прежнему считают литературу абсурда десертом, приправой: чем-то необязательным. Я уверен, что такое отношение к культуре абсурда имело для думающего сословия в России катастрофические последствия. Именно отсутствие здорового скептицизма, критического, «сухого» и одновременно «игрового» отношения к миру, понимание принципиальной невозможности и «нового человека», и «непошлой жизни» привели к неспособности противостоять абсурду советской реальности.
Чехов мог бы стать такой прививкой скептицизма для всей русской культуры еще в начале прошлого века, причем, в отличие от Кафки или Беккета, его лекарство замечательно щадящее – по отношению к тем, кто воспитан на традиции «большого, хорошо написанного романа с добром и злом». Никто еще не заметит у Чехова шов между двумя литературными традициями – XIX века и XX. И писано это словно невзначай, и по форме часто подделывается под анекдот или газетный рассказ, хотя по краям уже отдает непривычным металлическим холодком. Это гомеопатическое средство (чеховские малые рассказы – именно таблетки) при регулярном приеме могло бы произвести мягкую трансформацию в обществе: от мышления бинарными оппозициями (добро – зло, хорошо – плохо) – к миру более сложных, но и более адекватных представлений. Подготовить, наконец, психику человека к социальным экспериментам и абсурду жизни в ХХ веке с его рабочими массами и тотальным одиночеством.
 Чехов мог бы стать такой прививкой скептицизма для всей русской культуры еще в начале прошлого века (фото: antonchehov.ru) |
Но именно это в Чехове и было старательно закрашено, вымарано школьной цензурой – а наружу было выпячено полупролетарское происхождение, его якобы добрый и насмешливый нрав и, конечно же, пьесы.
Чеховские пьесы – о тщете и скуке человеческого существования, но для того, чтобы в монологах и диалогах это звучало естественно, Чехов выбрал в герои наиболее рефлектирующую часть общества: интеллигенцию и обедневших дворян.
Чехову, в сущности, было наплевать, дворяне там или мещане. Его интересовало рассмотреть человека под микроскопом, рассмотреть, как он барахтается на собственной сковородке, как он сам себя поджаривает и не понимает, почему так горячо. В сущности, если бы вместо дворян в то время людьми сложного внутреннего устройства считались такие синенькие человечки, как в «Аватаре», то они бы произносили монологи «в Москву, в Москву» и про «глубокоуважаемый шкап». Одну из главных идей Чехова можно свести к простой формуле: умному хуже всех. Хуже всех тому, кто по-настоящему понимает цену и смысл жизни. Потому что когда человек понимает ее окончательно, он кончается – если не физиологически, то духовно.
Но по причине физического выбытия этого класса из реальной жизни после революции внимание публики в спектаклях было перенесено с отдельной личности на социальную группу – на советской сцене чеховские пьесы неизбежно смотрелись как сценки «из жизни бывших людей». В 1960-е, в оттепель, самые смелые режиссеры стали ставить Чехова наоборот, с сочувствием: как «Россию, которую мы потеряли». Но это было то же самое: тема дворянства и интеллигенции опять загородила абсурдизм самих пьес. Наконец, в 1990-е у всех было ощущение, что Чехов стал ближе, понятнее: потому что мы тогда тоже активно продавали или покупали вишневые сады. И к Чехову тогда подошли с лотмановской меркой: стали интересоваться, сколько стоил вишневый сад в пересчете на доллары. Словом, все три подхода не имели прямого отношения к пьесам Чехова, а само количество «Чаек» и «Садов», поставленных в российских театрах, скоро будет сопоставимо с количеством населения Российской Федерации. Министр культуры доложил недавно премьер-министру о том, что к чеховскому юбилею наши театры подготовили для наших зрителей «сюрприз» – что бы вы думали? – еще десяток «Садов» и «Дядь Вань».
Самое-то страшное что?.. Не то даже, что его пьесы ставят уже по инерции, а то, что на Чехова уже довольно давно зритель ходит «отдыхать душой», слушать «прекрасный русский язык» и т. д. Хорошенький отдых.
Чеховские спектакли – это не про «русскую интеллигенцию», не про «идейные искания» – это ведь все только внешний узор, который герои Чехова плетут, чтобы чем-то занять себя, – а про самое глупое во всем живом мире существо, которое способно всерьез переживать о том, что «жизнь прошла». Зачем? Ведь бессмысленное занятие. А между тем все люди думают об этом почти всю жизнь.
Но даже если представить, что чеховские пьесы «про интеллигенцию», то нынешняя интеллигенция напрасно ищет себя в этих героях: таких людей, о которых писал Чехов, уже нет.
Чехов пишет про человека индивидуального, еще не включенного в движение масс. Чехову, я думаю, массовый человек был бы неинтересен, потому что в нем нет главного – самообмана, при помощи которого индивидуум поддерживает иллюзию серьезности жизни. У массового человека эта иллюзия формируется за счет внешних внушений и ритуальных жертв, зато у него нет выбора: в Москву – или не в Москву, работать – или не работать. После 1917 года кирпичи лет 30 будут так или иначе класть все, причем это будет считаться еще не худшим вариантом. И именно поэтому – ввиду отсутствия выбора – чеховский герой, каким его описал Чехов, умер не позднее примерно 1920 года. Поэтому искать в чеховских героях себя – глупо и смешно.
Мы – внуки тех самых масс: мы стали свободнее только потому, что веревки, которыми были связаны предыдущие поколения, сгнили от времени. Но в известном смысле мы все та же масса, тем более что потребление лепит из нас массу не хуже совка. Одноцветная толпа гулаговская или разноцветная толпа, бегущая по магазинам, или толпа, пишущая в блоги разное, – та же масса, и разделять ее на атомы почти бессмысленно: слишком мала вероятность найти что-то оригинальное.
Опыт режиссера Шахназарова, перенесшего «Палату № 6» в наши дни, принципиально не изменив в ней ни единого слова, показателен: сам по себе ход хорош, и сделано современно, местами даже остросоциально и с юмором. Тем удивительнее разочарование: не работает чеховский текст. Нет таких людей, подобных доктору Рагину, которые бы от духовного кризиса и разочарования в человечестве способны были бы помешаться, да и вообще, сколько-нибудь сильно переживать об этом. Причем я этих людей хорошо понимаю.
Ближе всего к истине оказался Театр «Около» Юрия Погребничко, в котором и «Трех сестер», и «Дядю Ваню» играют, словно сквозь мутное стекло, словно глядя на пьесы в подзорную трубу, на некотором отдалении; все время напоминая зрителю, что это понарошку, а актеры здесь не играют Чехова, а играют в Чехова – так же, как и в спектаклях Дмитрия Крымова, включая только что поставленную «Тарарабумбию». Именно признание невозможности чеховских героев сегодня и делает эти спектакли наиболее близкими к Чехову.
И советский, и постсоветский человек – в равной степени человек постчеховский. Поделать с этим ничего нельзя – можно только разглядывать его героев в подзорную трубу.
 Игорь Караулов
Европа выбрасывает демократию за ненадобностью
Игорь Караулов
Европа выбрасывает демократию за ненадобностью