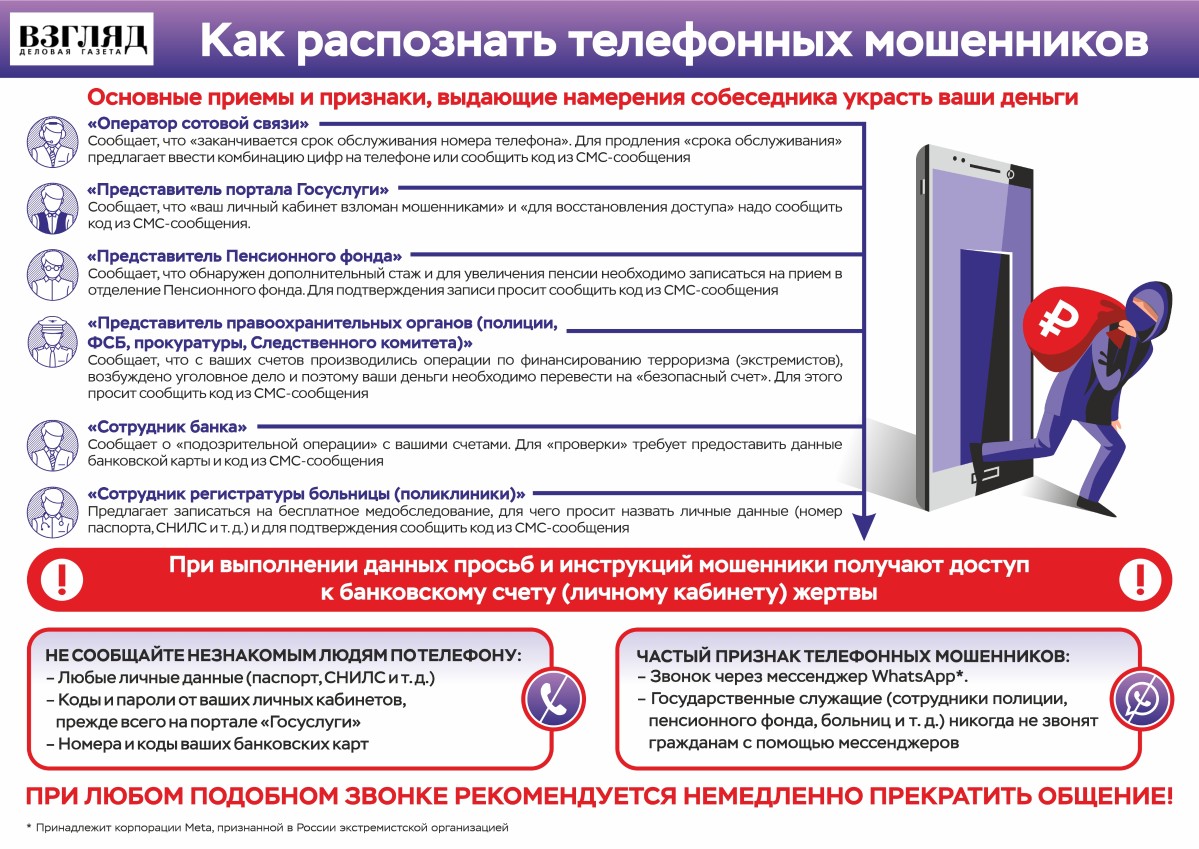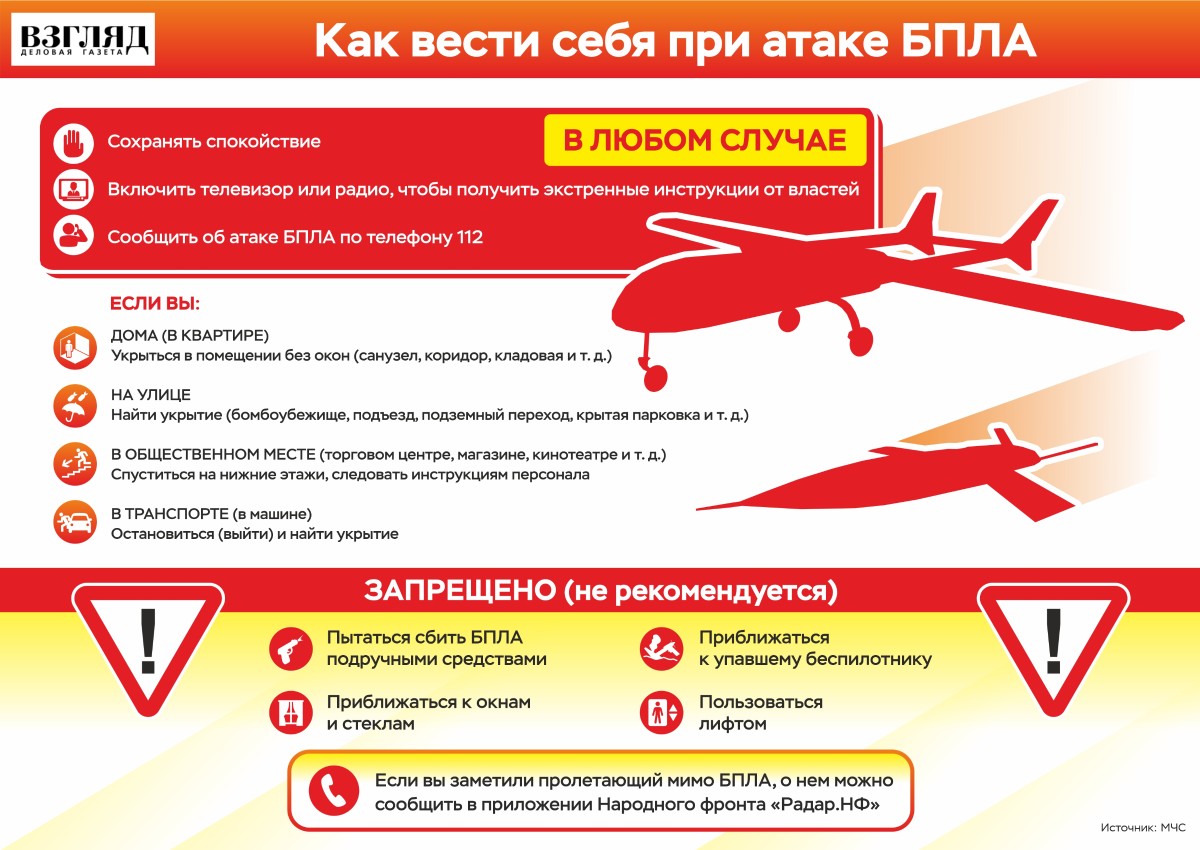Да и проблема-то в чем была – не в государственном признании Солженицына (опоздала держава со своим признанием), а вот в этом простом – примет или не примет?Государству нашему пока еще меньше лет, чем творческому пути Солженицына. Начальству важнее дать свою премию последнему классику, чем ему получить ее.
Он ведь и сам дает премии, по материальному содержанию сопоставимые с «государыней», да и по общественному отклику тоже.
Присуждая премию, государство хочет получить признание Солженицына, а вовсе не отблагодарить писателя за служение новой России, тем более что не очень-то он ей служил.
Интригу обостряет то, что слишком еще свежа в памяти история с орденом Андрея Первозванного – речь о высшей награде РФ, – который Александр Исаевич отказался принять несколько лет назад из рук Ельцина.
Даже те, кто классика обожал, почесали тогда в репе и подумали, что Александр Исаевич несколько оторвался от современных российских реалий
Не помню уже, как мотивировал отказ, но вроде бы мирно – скандала особого не было.
Теперь вот Государственная премия из рук Путина, но появится или не появится Александр Исаевич в Кремле, это врачам, наверное, судить. Не очень-то нам рассказывают, как он себя чувствует, хотя уже года два не появляется на публике.
Между присуждением и вручением есть время подумать, что же такое было с Александром Исаевичем с тех пор, как он вернулся в раздираемую страстями Россию из своего спокойного Вермонта? Почему здесь его мало кто услышал?
Да вот так вот исторически сложилось.
Помнится, перед возвращением Солженицына западные корреспонденты в Москве были чрезвычайно озабочены судьбами русской литературы. Они ездили по редакциям литературных изданий, хватали за полы пиджаков литераторов – именитых и не очень, – чтобы задать один-единственный вопрос: «Как вы относитесь к возвращению в Россию Александра Исаевича Солженицына?»
И в самом деле, как мы к этому относились? Мне, когда меня об этом спрашивали, приходилось честно, но с некоторым благопристойным сокрушением отвечать: «Да знаете, как-то без особого интереса. С одной стороны, чего же плохого в том, что великий писатель возвращается на Родину? А с другой – чего же в этом такого особенного? Нормальный гражданин нормальной страны имеет право жить там, где ему нравится».
«Да, – удивлялись собеседники моему равнодушию, – но ведь это Солженицын!» Приходилось пожимать плечами: «Да, это Солженицын. И преувеличенный (хотя все равно вялый) интерес к его возвращению лишний раз доказывает, что Россия – все еще не совсем нормальная страна. Хотя и становится все более и более нормальной».
Представьте себе, что было бы, вернись Солженицын в 1989 году, когда заседал Первый съезд народных депутатов СССР, когда «Новый мир» печатал «Архипелаг ГУЛАГ»!
О, это было бы триумфальное возвращение самого непримиримого борца с коммунизмом – возвращение в самую пору, то есть к последней решительной схватке. Это было бы возвращение Пророка, чьи пророчества сбылись, Учителя, чье любое слово было бы благодарно выслушано, Совести Нации, чьи приговоры не подлежали бы обжалованию.
А тогда, в 1994-м, шум вокруг возвращения Солженицына комически напоминал ажиотаж вокруг визитов к нам Виктории Руффо, Вероники Кастро, Майкла Джексона, Лайзы Минелли…
Во всяком случае, язык прессы, комментировавшей поездку Александра Исаевича по стране в «пломбированном вагоне», был тот самый – выдержанный в стилистике светской хроники.
В 1989 году пресса на этом комико-патетическом, панибратском жаргоне говорить еще не умела – встречали бы «под панфары» и никого бы не интересовало, купался сын великого писателя в океане или пренебрег.
Брали бы сразу быка за рога: скажи нам, что есть истина? Что есть Россия? Куда нам плыть?
Куда нам плыть, Солженицын рассказывал еще из-за океана, – был такой трактат в 1990-м, назывался «Как нам обустроить Россию».
Помнится, даже те, кто классика обожал, почесали тогда в репе и подумали, что Александр Исаевич несколько оторвался от современных российских реалий и смутно представляет себе, что тут происходит.
 Александр Исаевич Солженицын |
На вопрос о том, почему он медлит с возвращением, классик отвечал, что должен сначала дописать «Красное колесо».
Многим обидно стало: тут судьба России всерьез решается, Солженицын после Сахарова – один из главных моральных авторитетов, мог бы повлиять на ситуацию, но ему «Красное колесо» (которое прочтут уж точно не миллионы) важнее.
Было дело, как-то президент Рейган захотел встретиться с Солженицыным. Думаю, что приглашение было передано с каким-нибудь важным курьером (так и хочется сказать «фельдъегерем»).
А Солженицын ответил президенту публично, открытым письмом, где были такие слова: «Я не располагаю жизненным временем для символических встреч». Почто Рональда публично обидел? Непонятно.
Похоже, встреча с Россией в самые ее бурные и опасные годы тоже казалась ему «символической» и не располагал он на нее жизненным временем.
Все по-настоящему судьбоносные события прошли без него – и путч 1991-го, и распад Союза, и кризис 1993-го. Когда он приехал, граждан уже больше всего волновал курс доллара, крах МММ, черные вторники и пятницы. Проповедей слушать они не хотели. Они хотели выжить вопреки всему, как бессмертный Иван Денисович.
Думаю, что Александру Исаевичу в стране Ивана Денисовича стало неуютно. Какое-то время в своих проповедях он пытался бороться одновременно с коммунизмом и капитализмом, но это выглядело как-то не очень убедительно. Общественно-политическая деятельность Солженицына свернулась быстро.
Зато он много писал – двухтомник «Двести лет вместе» о сосуществовании русских и евреев, всякие мелочи для последних томов собрания сочинений.
И вообще очень достойная, хотя в чем-то и недовоплощенная литературная судьба. Есть там своя драма.
Премией этого не оценишь.
 Андрей Полонский
Почему рядом с войной растут города
Андрей Полонский
Почему рядом с войной растут города