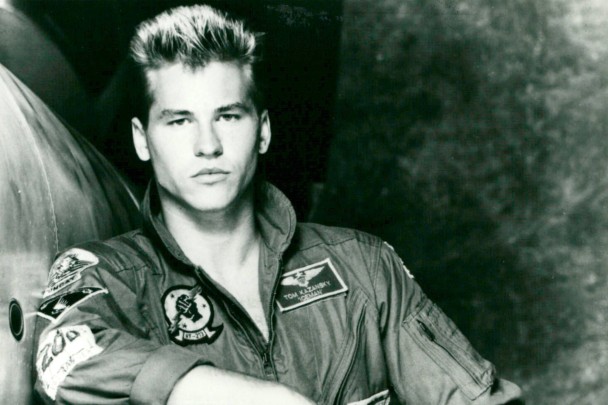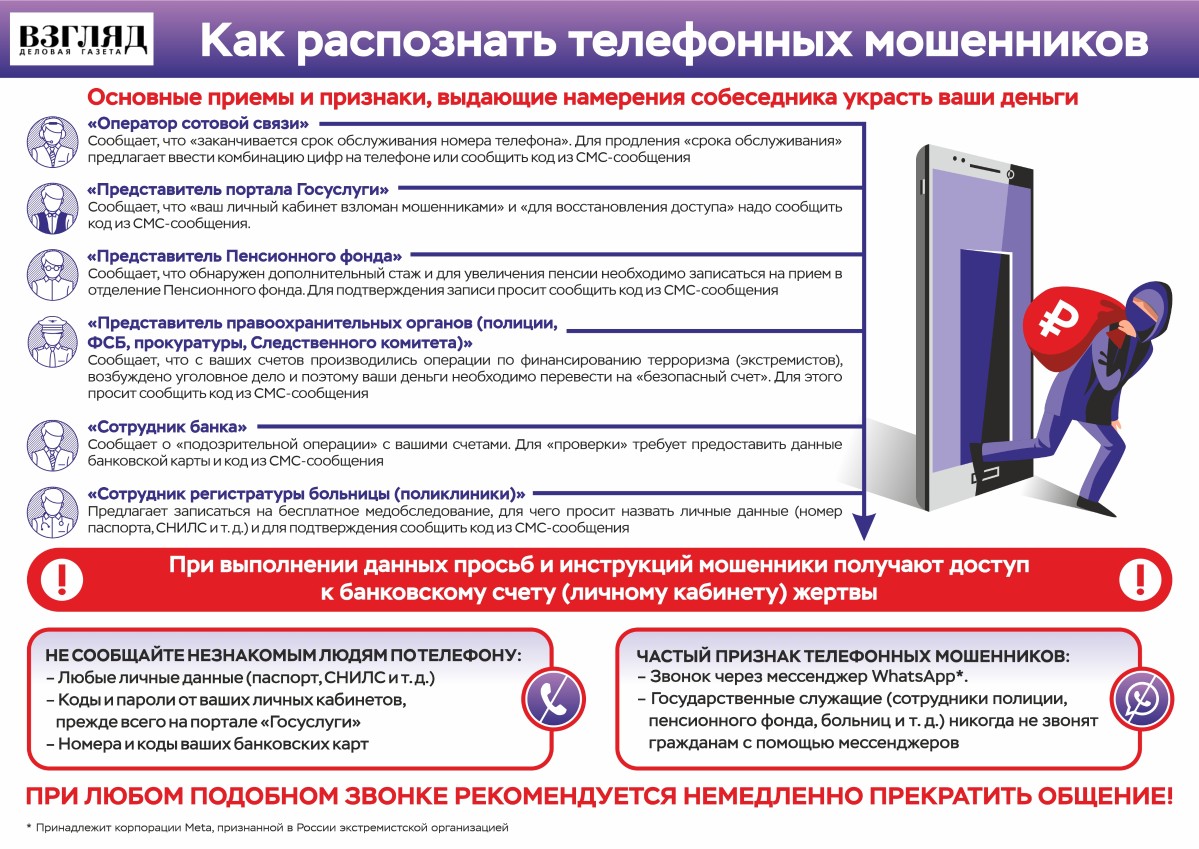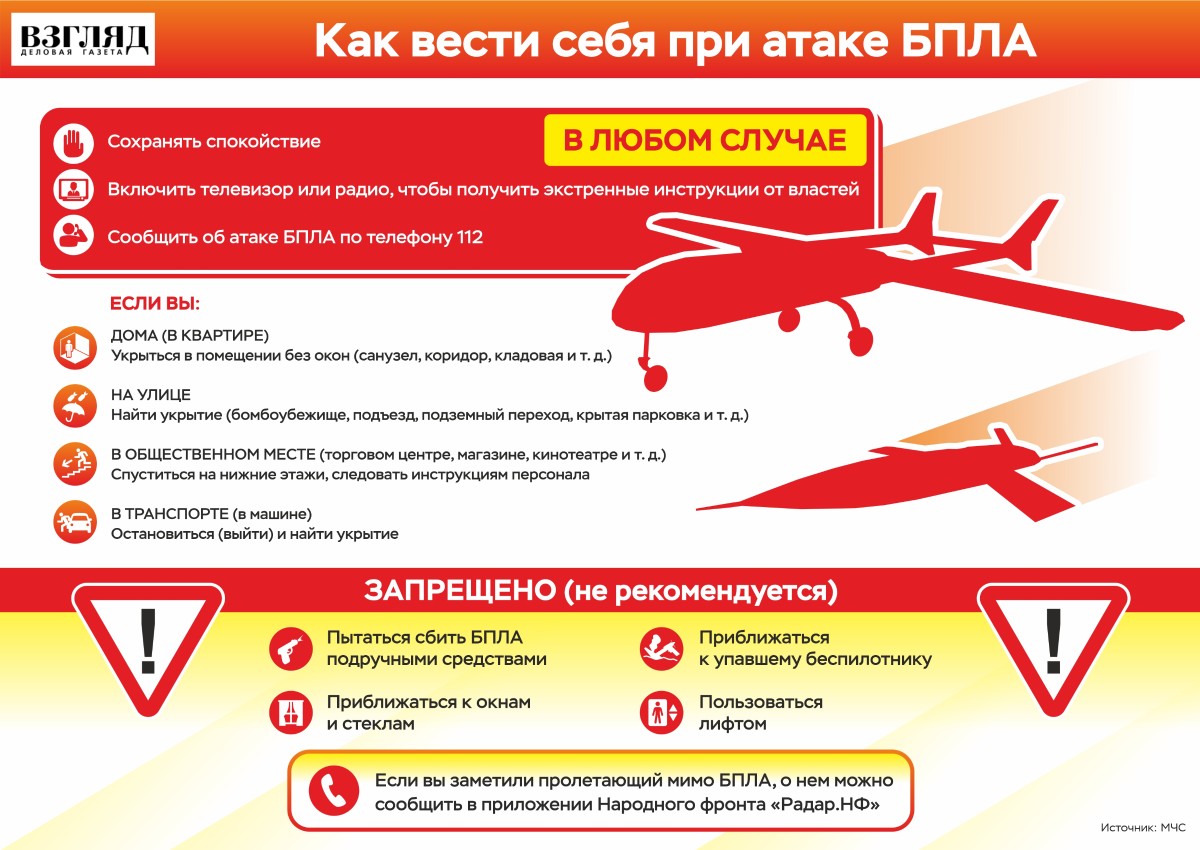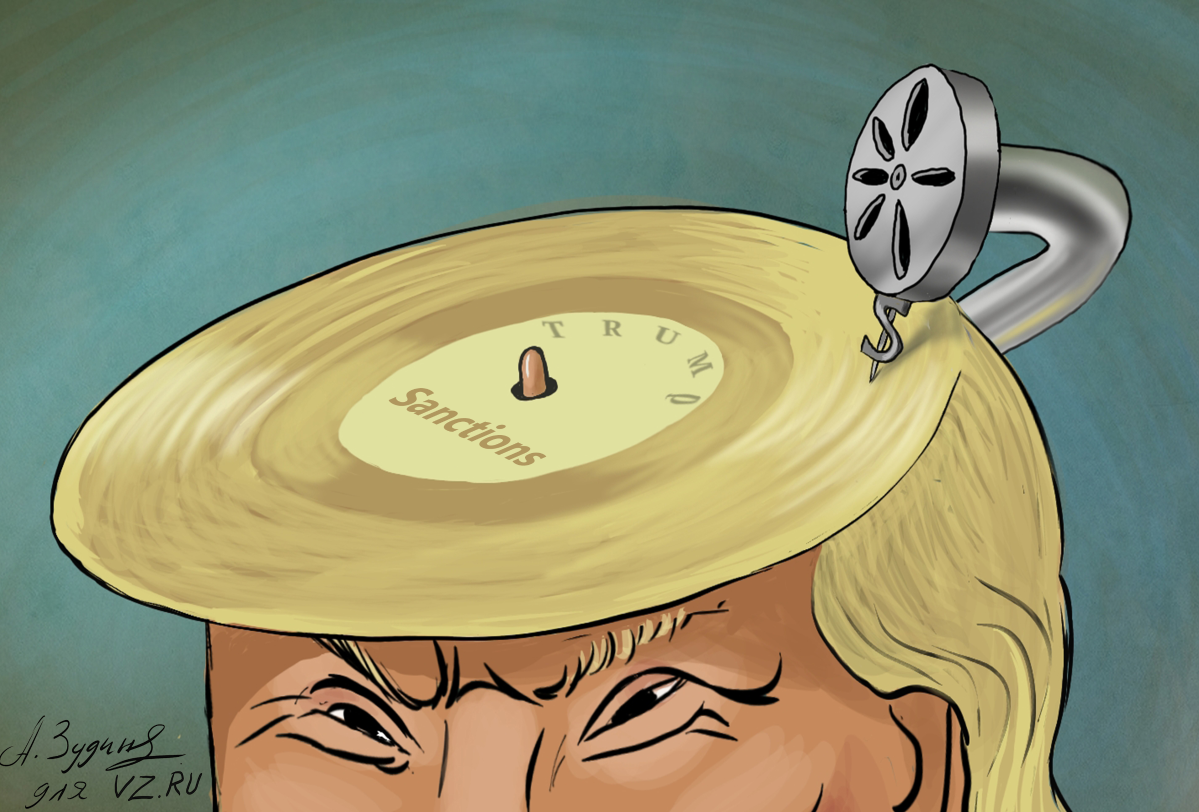Почему именно бразильцы вот уже 50 лет на порядок сильнее всех? Почему они завоевывают наши сердца, даже когда по случайности не занимают первого места?! Непонятно. Загадочно.
Обнаружил в киноафише картину режиссера Сержио Машаду «Нижний город», стремительно побежал смотреть. Все-таки бразильское кино – нечастый гость на наших экранах. Вот и проверим, так ли хорошо они снимают, как играют.
А что, кстати, известно про бразильское кино? Мне, например, известно про знаменитого режиссера Глаубера Рошу.
В середине 60-х этот человек снял свою самую знаменитую картину «Бог и дьявол на земле солнца». Картина произвела ошеломляющее впечатление на европейскую общественность. Допустим, Луис Бунюэль высказывался следующим образом: «Необычайно талантлив двадцатипятилетний бразильский режиссер Глаубер Роша! Он еще заставит говорить о себе! Его фильм, идущий три часа, – это самая прекрасная вещь из тех, что я видел за последние двенадцать лет. Он полон кровавой поэзии…Между прочим, фильм Роша был поставлен на очень скромные средства».
В 60-е годы бразильские футболисты доминируют на спортивных аренах, а бразильское кино неизменно поощряется крупнейшими международными фестивалями
Помнится, с подачи Бунюэля я упорно искал упомянутую картину Глаубера Роша и таки дождался ее демонстрации в Музее кино. Совершенно не помню деталей, ничего не могу сказать относительно «кровавой поэзии». Помню только, что сильно впечатлился. Помню, как доказывал приятелям: «В сравнении с феноменом «бразильского кино» бразильский футбол не стоит ровным счетом ничего!» Кажется, никто из приятелей так и не поверил, а напрасно.
В 60-е годы минувшего столетия в Южной Америке, безусловно, что-то происходило. Какое-то энергетическое брожение, своего рода взрыв. Революция на Кубе, освободительные движения, Че Гевара, оформление «магического реализма», общий взлет литературы и кинематографа. Вот, цитирую интервью все того же Бунюэля, данное корреспонденту журнала «Кайе дю синема» в 1967 году: «…Очень люблю южноамериканскую литературу. Алехо Карпентьер, по-моему, величайший писатель на испанском языке. «Потерянные следы» и «Век просвещения» – два замечательных романа. Так же как и «Город и псы» Варгаса Льосы. Еще я люблю Кортасара и Мигеля Анхеля Астуриаса…»
На вопрос интервьюера, что он думает о молодом бразильском кино, Бунюэль ответил так: «Я видел «Ружья», «Засуху», «Бог и дьявол на земле солнца». Три фильма, которые мне необыкновенно понравились и потрясли меня. В особенности фильм Роша, он сделан не очень хорошо, но обладает огромной впечатляющей силой. Из всех «молодых кино» на свете бразильское – самое лучшее».
Получается, в Бразилии одновременно оформились национальное кино и национальный футбол. Пеле и Роша – практически ровесники, оба из «поколения победителей». В 60-е годы бразильские футболисты доминируют на спортивных аренах, а бразильское кино неизменно поощряется крупнейшими международными фестивалями. Так, упомянутые Бунюэлем «Ружья» режиссера Руя Герра отмечены спецпризом Берлина-64, «Обет» режиссера Анселму Бениту Дуарти и вовсе получил «Золотую пальмовую ветвь» в Канне-62, Глаубер Роша был произведен в классики, победив в Локарно-67 с картиной «Земля в трансе»…
И вот – «Нижний город», участник Каннского кинофестиваля нынешнего года. Деко и Налдиньо – двое неразлучных друзей. Один черный, а другой белый. Путешествуют по водным артериям страны на стареньком катере и делают свой маленький бизнес. Стараются не выходить за рамки закона. Встречают симпатичную стриптизершу, а по совместительству проститутку Карину. По очереди с нею спят, постепенно влюбляются.
Поначалу друзьям кажется, что никакая женщина не может их поссорить и уж тем более разлучить. Постепенно выясняется, что парни плохо себя знают: совсем скоро Карина становится поводом для раздора и для жестокой предфинальной драки.
В финале Карина омывает раны одного и раны другого. Потом, уже на титрах, нам показывают жаркую, пеструю бразильскую улицу: солнце, камень, окна, лица, короче, живущий по своим бесхитростным правилам «нижний город».
Фильм неприятно меня удивил. Есть в нем своего рода «этнографические поддавки». Есть некая предательская интонация, и есть нездоровый провинциализм. Авторы словно бы говорят: наша Бразилия – задворки цивилизации, у нас немудреные сюжеты, у нас дикие люди и у нас первобытные страсти. Посмотри на нас, Каннский фестиваль, посмотри на нас, цивилизованный западный человек: все мы похожи на зверьков и у нас нет никакого шанса вырваться из повседневной животной рутины! Сдаемся!!
 Революция на Кубе, освободительные движения, Че Гевара, оформление «магического реализма», общий взлет литературы и кинематографа |
По прошествии нескольких дней в голове остается только грязноватая картинка и убогая вышеописанная фабула. Ничего кроме! Совершенно не прописана психология. Не чувствуется никакого внутреннего усилия. Кто она, пресловутая стриптизерша Карина? Кто они, двое неразлучных друзей? С надеждой ждешь алогичного драматургического хода, ждешь сюрпризов. Заставляешь себя поверить в то, что кто-нибудь из персонажей все-таки окажется больше самого себя и, выпрыгнув из своей животной шкурки, предъявит, извините за выражение, «богатый внутренний мир».
Ничего подобного! Никаких сюрпризов и мотивировок! Подрались, подобно двум бойцовым петухам из стартового эпизода картины. Вынужденно примирились. Сдались на милость обстоятельствам. Полное поражение. Вечные задворки цивилизации. Вечная колония.
Что-то мне это напомнило. Ну, конечно, ровно в таком же вот предательском стиле конструировали Россию либеральные реформаторы 90-х! Конец истории. Покорность сложившимся геополитическим обстоятельствам. Вековечная тоска. Нижний город. Нижний мир. Ад.
Смотреть отчетную картину не слишком-то интересно, но поучительно. Сильно промывает мозги. Предостерегает.
Тот, кто поверил в конец истории и добровольно остановился, обречен на сюжет без мотивировок, на фабулу без сюрпризов и на жизнь без открытий. Не хочется, чтобы твоя собственная страна превращалась в такую вот безнадежную «Бразилию, где в лесах много-много диких обезьян». Колониальное наследие либеральных 90-х должно быть преодолено без остатка. Хочется Большой Истории и хочется реактивного движения.
…Пошел по магазинам, а на улице только и разговоров, что о предстоящих четвертьфиналах мирового футбольного первенства. Боюсь, на данном историческом этапе у замечательной сборной Бразилии ничего не получится. Там, где плохое кино, плохо обстоит и с национальным спортом. Ведь кино – это сгусток социального воображаемого и коллективного бессознательного. Кино манифестирует национальную идею и национальную волю. Или же свидетельствует об отсутствии таковых.
 Из всех «молодых кино» на свете бразильское – самое лучшее» |
В книжном понравился свежеизданный поэтический сборник Игоря Караулова «Продавцы пряностей». Отдельно понравилось то, что в сборнике оказалось стихотворение на тему моей сегодняшней колонки, – «Бразильская мелодия».
…Пусть время подлое таращится глазуньей,
летает кодлою над нашею лазурью,
толчется у двери, маячит у окна,
запомни главное – в Бразилии весна,
у нас в Бразилии в ветвях так мало ветра,
у нас в Бразилии в лесах так много педро,
хоть ноту высвисти, хоть имя назови,
сто голосов тебе признаются в любви…
Итак, в Бразилии с ветром, то бишь с движением, непорядок. А как обстоит с ветром у нас? Легко нахожу в книжке Караулова соответствующее стихотворение:
Вам, любителям старых и молодых:
сегодня ветер на улице бьет под дых, ветер владеет приемами айкидо,
ветер хозяин улицы от и до,
ветер, огненный сеттер, ничейный пес,
бросился тополя целовать взасос,
мачты шатать, выдергивать провода,
из букварей вытряхивать календарь…
Весьма экспрессивно. В России действительно тяжелые ветра. Опасно, зато небезнадежно.
 Дмитрий Губин
Если закон не работает, нужен психиатр
Дмитрий Губин
Если закон не работает, нужен психиатр