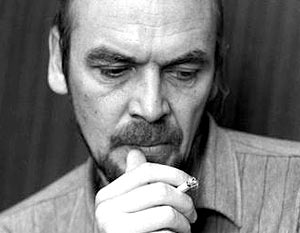В «Прологе на небесах», где черт сходится с тружеником Богом – кстати, тоже ведь скульптурно лысым, – постоянно вращающим вокруг оси деревянное бревно, отчётливо пахнет серой. Словно постановщику хочется задействовать в восприятии гетевской трагедии сразу все органы чувств.
В третьем акте будут жечь бумагу или тряпки, а пока сцена погружена в дым. На ней нет ничего, кроме квартета мятых металлических конусов с окошками, из-за чего черный квадрат сцены начинает напоминать декорации к фильму «Кин-дза-дза».
Чувства
Каждый монолог или разговор предваряют пантомимы и пластические этюды, словно бы словесная составляющая должна быть оттянута насколько это возможно
Первая часть «Фауста» сведена к трем эпизодам. В первый акт, помимо инфернального «Пролога на небесах», вошли диалоги Фауста с учеником Вагнером, во второй – история подписания договора с Мефистофелем, который в спектакле раздвоился на мелкого беса и собственно чёрта, третий отдан трагедии Гретхен.
Все три эпизода автономны, из-за чего сложно сказать, о чем громада спектакля, в котором ни на секунду не умолкает звуковое и музыкальное сопровождение. Здесь, совсем как в опусах композиторов-минималистов, одна и та же постоянно повторяющаяся музыкальная фраза бегает по кругу, сопротивляясь медленному нарастанию драматического напряжения.
В каждом из актов есть центральная визуальная метафора – тщету разума обрести покой и гармонию первородства в первой части сопровождает яркая рампа, которая с помощью натянутых канатов бьется бабочкой о лысину горделивого ученого, порхает по сцене почти как живая.
Вторая часть, заканчивающаяся подписанием договора с нечистой силой, обрывается на кардиограмме Фауста с пульсом, постепенно сходящим на нет – ее изображают с помощью всё те же канатов, протянутых через всю сцену. Наиболее сильным образом в сумасшествии Гретхен оказываются окружающие ее живые деревья, которые накрывают ее агрессивным сочувствием.
А еще здесь постоянно пытаются что-то построить, стучат молотками или прялками, деревянными шестами и книжными страницами, выкладывая книгами целую поляну. Хотя суеты, мелкой моторики и символов внахлест здесь меньше, чем в других постановках Някрошюса, отчего спектакль кажется особенно центробежным, а Фауст на голой сцене – практически голым, несмотря на многие одежды и многие скорби.
А еще здесь танцуют и поют, жгут спички, смеются и кружатся то вовне, а то внутри круга – окружности для нынешней холоднокровной и головной интерпретации «Фауста» важны так же, как и вода для «Отелло».
Разум
От «Отелло» я ждал примерно того же, что и от «Фауста», шел получать прохладное интеллектуальное удовольствие в виде слайд-шоу и был удивлен пустой сцене, постоянной ненужной суете, избыточному и асимметричному реквизиту – геодезической линейке, камням, которыми был выложен центр сцены (после их перевернут, и они окажутся лодками), ведрам, тазикам и ванночкам, расплескивающим воду, двум старым кованым дверям, которые торчат по бокам непонятно зачем.
Зато сразу стало понятным, отчего для демонстрации спектакля выбрали именно «Новую оперу» – ибо здесь есть оркестровая яма, символизирующая пропасть и берег. Яго и Отелло попеременно заглядывают в пропасть и тогда – ближе, что ли, к середине – пропасть начинает заглядывать в них.
Играют по-литовски, сверху бегут титры, что сближает «Отелло» с оперой; кроме того, с правого боку здесь (совсем как в додинском «Короле Лире») стоит пианино-комментатор.
Живая музыка тапера накладывается на густой симфонический фон, взятый (несколько закольцованных тактов) из какой-то оперной увертюры – как будто она раскачивается да всё никак не может начаться и найти разрешения.
На заднем плане сидят два безмолвных персонажа с емкостями воды в руках, раскачивая их, они отбивают ритм будто бы биением волн о набережную. Под этот постоянный шум и проходит весь спектакль.
В «Отелло» вообще много всего бессловесного, черно-белого, отсылающего то ли к немому кинематографу с его преувеличенной, избыточной пластикой (актеры у Някрошюса хлопочут лицами, что ярмарочные зазывалы, переигрывают на грани фола – особенно это касается второстепенных персонажей и Яго), то ли к балету – Дездемона выламывается из этого грубого, мужицкого мира неземными скользяще-летящими движениями.
Каждый монолог или разговор предваряют пантомимы и пластические этюды, словно бы словесная составляющая должна быть оттянута насколько это возможно.
До слов не дорастают, литературная составляющая не является верхом айсберга из подтекстов и упрятанных под спудом смыслов, но существует как-то очень уж перпендикулярно, из-за чего в спектакле стоит какая-то постоянная суета, феллиниевская (ибо средиземноморье, пустота, сакральность) клоунада.
Подобный хаос, для создания которого и нужны актеры без текста, царил и мешал на някрошюсовской постановке «Детей Розенталя» в Большом театре, из-за чего смысл оперы если не утрачивался окончательно, то очень сильно затенялся.
Вот и здесь движений, мелкой и крупной моторики больше, чем логики, слов и центробежных движений. Каждая мизансцена стремится превратиться в вещь в себе, схлопнуться, инкапсулироваться, стать самодостаточной, из-за чего «Отелло» грозит рассыпаться в горох. Но не рассыпается ведь, удерживаясь на самом последнем шаге перед оркестровой ямой.
Някрошюс накидывает и буквализирует одну метафору за другой, что во всём, при желании, можно разгадать. Скажем, когда Отелло начинает ревновать жену, он долго ковыряется в карманах куртки и штанов, выворачивая их наизнанку и раскидывая по сцене гальку – чтобы ни камня за пазухой.
Есть, конечно, удивительно точные попадания – типа фонящего микрофона, чей звук преследует сошедшего с ума мавра, или когда кованые двери, похожие также на прокопченные алтари, начинают в финале то ли плакать, покрываясь каплями воды, то ли мироточить.
Словно бы Някрошюс не может остановиться, плодит и плодит образы, метафоры, символы и подобия, забивающие друг друга, и всё никак не может выйти на начало. Или же на финал: ведь вместо того чтобы быстро разделаться с безумием Отелло, открытием тайн и смертью в конце, Някрошюс превосходит сам себя целым каскадом вставных номеров.
Ты получаешь умозрительное развлечение – жирное, обильное, интеллектуально насыщенное, не сердцу, но уму, качественный авангардный спектакль, расцвечивающий многочисленными остроумными придумками заезженную колею всем знакомой истории, неотвратимо продвигающийся через каскады и эскапады к заранее запланированному финалу.
Ага, говоришь ты себе, постановщик изображает мужской мир – корабля или походного лагеря с солдафонскими шутками-прибаутками, в котором нет места нежности и женщинам, а потом его герои переносятся в приватные пространства и приносят с собой на ногах пыль всех этих солдатских обычаев и поведенческих стереотипов.
Да, у мавра вспыхивает страсть, многократно превосходящая гнев и горение военного дела, что оказывается для него непривычным, он не готов к страсти и буквально раздавлен ею, как Дездемона, в первый раз зачем-то выходящая с дверью на хрупких плечах. Някрошюс заимствует метафоры из текста, наполняет слова, как сосуды, новыми, подкрашенными жидкостями, из-за чего всё происходящее превращается то ли в фантасмагорию, морок, дурной сон, то ли в мистическое ритуальное действо, мессу на непонятном языке.
И всё это болтается и торчит в разные стороны, пока вдруг не собирается в единый даже не ансамбль, но в оркестр конца первого отделения. Последняя сцена перед первым антрактом, когда Отелло танцует с Дездемоной грубое, садистское танго, бросая ее в разные стороны и прижимая (словно бы размазывая по своему телу) невинную к себе, а вся массовка замирает на заднем плане, впереди трубач и надрывная музыка – то горло перехватывает.
Это потом окажется, что именно здесь случилась высшая эмоциональная точка спектакля, отсвет которой организует и растянутый, зудящий зубной болью финал. А пока ты перестаешь смотреть постановку головой, отключаешь интеллектуальный аппаратец, отдаваясь бескорыстному течению картин.
И вот только тогда начинает проступать истинный замысел режиссера, маскирующего избыточностью и преувеличенностью ход давно и безнадежно знакомой всем пьесы. «Красота – не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра»: расчет режиссера оказывается единственно правильным и безоговорочно верным!
Някрошюсу важно показать «Отелло» словно бы в первый раз, превратить искушенного знатока в простодушного зеваку, принимающего историю о ревности и гибели от любви за свершившуюся, на его глазах свершаемую данность.
Някрошюсу важно переживание в режиме реального времени, когда количество впечатлений переходит в качество восприятия, когда «много» сужается, сгущается в «мало», четко бьющее по нервам. Тогда и суета отмирает, отмыкая главные смыслы, никем не отмененные, – про человека и человечность, слабость его и силу, величие и трагедию, превращая фестивальный просмотр в твое собственное личное событие.
Как бы ты ни сопротивлялся и ни транслировал лучи скепсиса, но когда Отелло душит Дездемону в смертельном танце, ты вместе со всеми начинаешь плакать, слезы выступают как на тех самых прокопченных кованых дверях, которые тоже ведь не смогли остаться безучастными к подлости людской, неотвратимости наказания, к любви, выжигающей себя изнутри.
 Геворг Мирзаян
Четыре условия устойчивого мира на Украине
Геворг Мирзаян
Четыре условия устойчивого мира на Украине