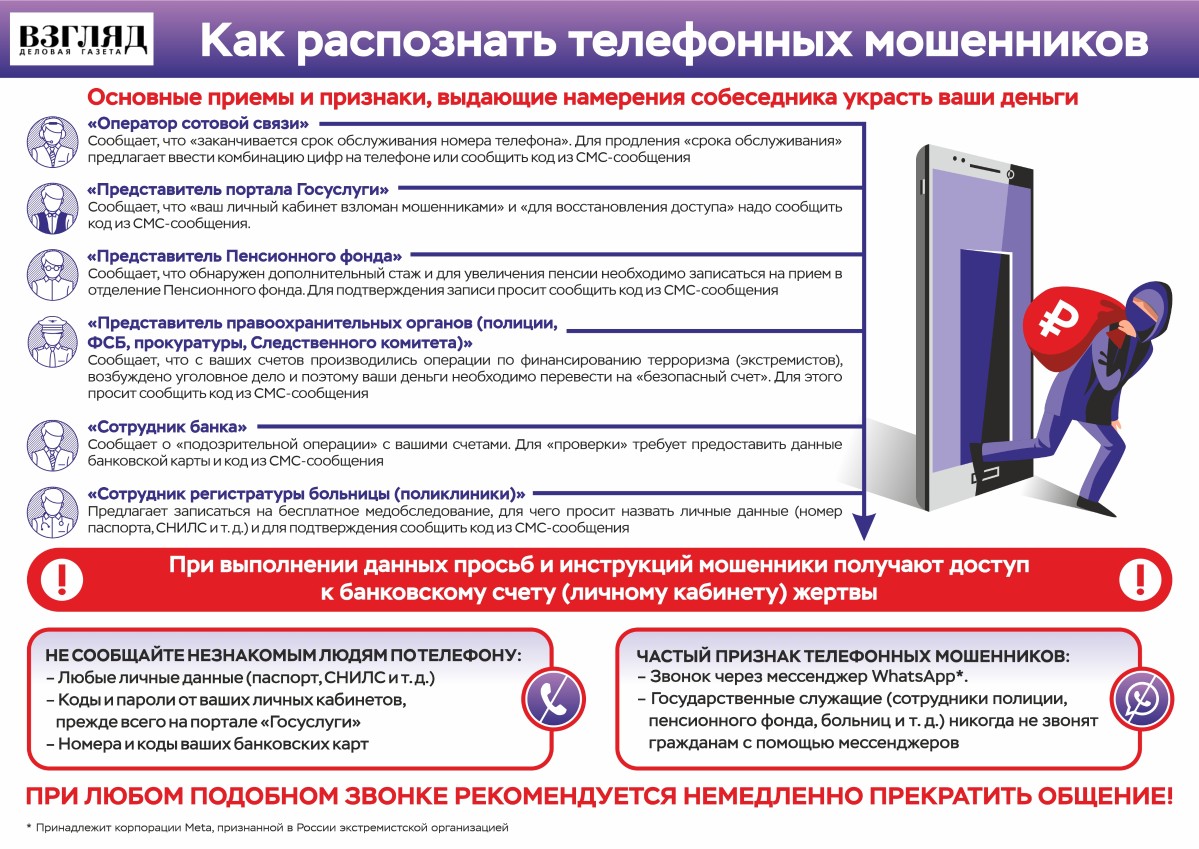Правду сказать, это волшебство не сразу разглядишь – но со временем почувствуешь, как оно в ладонях шуршит и колется. На меня книга свалилась еще в рукописи.
Стыдно сказать, когда мы почти сразу говорили о ней с московскими друзьями, помнится еще вопрос в духе: ваш Темников – что это такое за чудо-юдо, о чем он пишет вообще.
И я не нашлась, что ответить, потому как читала профессионально, наискосок, ну и ответила: да, такое вот чудо, непонятно о чем. Хорошо, хоть наш, хотя вообще – и не наш вовсе, по факту – из Самары, а в самом деле – гражданин не мира даже, а воздуха. Такая тяжеловесная бородатая сильфида.
Это я к тому, что Темникова противопоказано читать наискосок, и если вы к этому, так же как и я, привыкли, то лучше не беритесь вовсе.
Изысканный темный стиль
 Чуть позже, одумавшись и вообще, у меня все же получилось раскрыть «Зверинец» ранним утром |
Чуть позже, одумавшись и вообще, у меня все же получилось раскрыть «Зверинец» ранним утром, в день сдачи номера и перед отъездом на дачу.
Первая же вещь – не разберешь, развернутая ли новелла, маленькая ли повесть – называется «Другие шестьдесят», уколола рифмой имени автора – насколько я знаю, реального не только с выбранным предметом описания, но с духом и стилистикой.
«Другие шестьдесят» – это вольная фантазия на тему куртуазной культуры, поэзии трубадуров – инспирированной не абзацем в нудном учебнике, но тем, как если очень постараться представить, могло быть в самом деле.
Представьте – холодный каменный дом-замок, распускающийся сад; «и в каждом раннем цветке есть черная букашка, длинная, но с очень короткими крыльями». «По стене резьба из наездников на грипхонах, чьи хвосты образуют лес, но только не настоящий, а змеиный. Но только и это не совсем змеи – у них лисьи головы. А по лесу бродит скучный зверь елипхант, у него два хвоста».
Это Темников.
«Слепую страсть, что в сердце входит, не вырвет коготь, не отхватит бритва. Льстеца, который ложью губит душу; такого вздуть бы суковатой веткой. Но, прячась даже от родного брата, я счастлив, в сад сбежав или под крышу».
Это Арнаут Даниэль, родом из двенадцатого века, признанный мастер изысканного «темного» стиля, направления, славу которого здесь и сейчас вполне составил Темников.
Тупиковая ветвь
 Оксана Робски |
Как вы это себе представляете – родившись в городе Куйбышеве, одна бабушка – француженка, другая – русская дворянка; зимними вечерами у окна одна другой на общем для обеих сладостном наречии объясняет конструкцию дамского верхового седла.
Преподавать литературу в школе – «я старался привить навыки внимательного чтения тем, кому они противопоказаны: будущим филологам, поэтам, писателям, и особенно журналистам».
В 1991 году окончить литинститут. Скажите, чем еще в начале девяностых было заниматься? Собрать вокруг компанию друзей-учеников. Писать в стол. Ставить в городе – уже Самаре – пьесы иноземных авторов.
К сорока девяти годам дождаться единственной серьезной публикации и умереть, успев прочитать – нет, услышать по телефону – первую на нее рецензию.
Мой краткий и по верхам анонс в Timeout – действительно, много ли прочитаешь в утро перед сдачей номера – Темникову читал его друг Сергей Рутинов, читал по телефону.
В это время, в Петербурге, я как раз всерьез осваивала его книгу и приходила к мысли, что с этим писателем очень есть о чем поговорить.
Казалось, что это тот самый тупиковый путь развития литературы, который в состоянии оплодотворить остальные десять более-менее магистральных.
В самом деле за громокипящими шедеврами Сергея Доренко или сусально-рублевскими – Оксаны Робски мы как-то начинам забывать, что это значит – быть писателем. Или, как проговорился Федерико Гарсиа Лорка, – «самая печальная радость – это быть поэтом».
Наверное, жить в Самаре и быть внимательным к каждой перемене погоды (не политической), к каждому шипению сквозняка (не властные имеются в виду коридоры), к легкому непорядку в одежде собеседника (не за столиком московской «Галереи»), к легкому движению бровью – это и есть оно.
Не следует думать, что я тут втираю за вялую литературщину и отсутствие сюжета, поскольку что-что, а сюжет у Темникова есть всегда.
Он, правда, не колет глаза, но возникает исподволь, как фотооттиск при проявке, и такое ощущение, что его рисует не автор, но – солнечный свет на нашей коже.
Сорокалетний учитель в компании свежеоперившихся девчат-учениц гуляет по лесу вокруг турбазы; ночь, купание голяком, трусы, стянутые стеснительной студенткой в воде и после заброшенные на плечо, колыхающиеся на манер крыла ангела или медузы.
Разговоры о привидениях – все целомудренно, но невольный зритель искушен. Одна из студенток в сумерках, впечатленная беседой, замечает черноволосое личико, мерцающее, как маячок. Двадцать лет назад после дикой пьянки и быстротекущей интрижки с подружкой местного мальчика-мажора герой отправился в лес и вырезал на живом дереве портрет случайной возлюбленной.
Личико заплыло корой, но не состарилось; маячит в темноте. «Живой, бледно-серый наплыв давно закрыл щеки, глаза, лоб. Две его части почти что встретились, они вот-вот сойдутся, как створки раковины, из щели между ними торчит растрескавшийся кончик носа, нижняя губа, втянутая лопаточкой, еле-еле виднеется. А вокруг этой дерзкой щели грубыми волокнами клубится черная кора».
Щедрость, вежество и радость
 Особенность Темникова – из кардинальных – всеядность или – для художника характерные открытые ладони |
Особенность Темникова – из кардинальных – всеядность или – для художника характерные открытые ладони.
Любая глина, дерево, металл, да и грязь просто в этих ладонях мутируют, трансформируются, превращаются в золотой запас.
Знали бы вы, как неловко и странно писать о таком алхимического дара авторе после его смерти – как говорят из Самары, это «совсем ненужный ореол, избыточный и нелепый».
Прямо из пухлой, нежной, мягкой русской земли перед нами вылупился волшебный писатель, писатель не то чтобы вопреки, но просто – ни за чем, этакий текст-цветок, распускающийся с каждым новым мгновением.
Аналогии – Бунин, но без самолюбования, Пруст – но без занудства, короче и четче, Николай Кононов – но здоровее, лапидарнее, что ли…
По остроте поэзии, из того, что на слуху, книжку Темникова можно сравнить с последней вещью Сергея Носова. Но опять же Носову отчасти свойственна вот эта наша питерская рахитичность, жалостливость, тягучесть.
Темников и вправду по-французски изыскан, легок, воздушен и по-волжски жизнестоек – как бы странно ни звучало это по отношению к «сгоревшему» человеку.
Во всяком случае, такова его проза, проза счастливца, развившего в себе такую восприимчивость и чуткость к любому проявлению красоты, поэзии, радости, что жить с ней долго – оказалось невозможным.
В куртуазном своде добродетелей влюбленного поэта значатся – щедрость, вежество и радость. Темников – тот самый влюбленный в мир поэт, щедрый на откровения, изысканный по форме (вежество – не совсем вежливость, но скорее утонченность) и чудесно-радостный духом. Жизнь, ощущаемая как чудо, и дар слова – как резонатор, усиливающий, сообщающий остроту.
Думается, Темникову было дано так много – плюс осознание того, что дано, что он и в случае долгой безвестности, затерянности и вынужденного шепота остался при своих.
Дать ему что-либо сверх – это непосильная задача для любых издателей, поклонников, журналистов и обмишурившихся литературных обозревателей.
Первый трубадур и герцог Гильем Аквитанский, равно как и прочие достойные мужи, давно ждали, когда он присоединится к их вечеринке на солнечных берегах поэзии.
А нам остается пример замечательной внутренней свободы и жизни, не обязанной никому, кроме создателя, а также архив писателя, из которого, при желании, можно извлечь еще не одну книгу.
 Евдокия Шереметьева
Индейцы не видят испанских кораблей
Евдокия Шереметьева
Индейцы не видят испанских кораблей