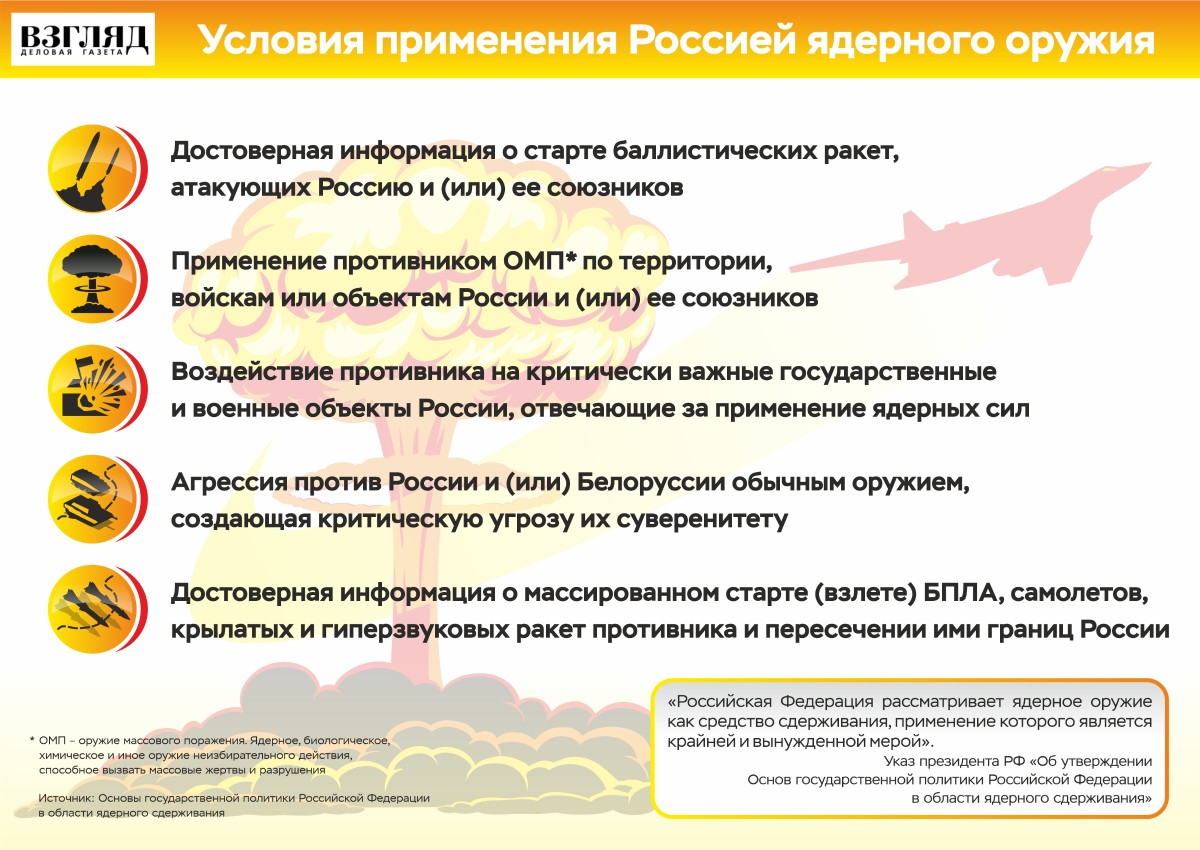Повесть мне не понравилась. Никакого сравнения с лучшими вещами того же автора, огорченно отметил я. И буквально через полгода сам писатель – в тексте следующей повести – объявил отрецензированную мной вещь творческой неудачей и подробно проанализировал причины собственного провала. Причин этих, как желаний у мимолетной подруги бравого солдата Швейка, оказалось шесть.
Однако сразу же после публикации моей рецензии главному редактору заштатного журнальчика пришло рассерженное письмо переводчицы повести. Это была, кстати говоря, весьма известная и, судя по всему, на редкость симпатичная дама – либералка, правозащитница и без пяти минут диссидентка, а работала она ответственным секретарем еще одного журнала – тоже литературоведческого, но куда более влиятельного.
(Назывался он «Воплями», а рецензию я опубликовал в «Литобозе».)
Но лоялен я читателю, а не «нашему брату писателю», которому нынче, говорят, живется трудно! Да и всегда жилось трудно. Личные счеты тут ни при чем
«Рецензия Топорова, – написала эта милая дама главному редактору «Литобоза» Леонарду Лавлинскому, – ставит под угрозу только что, наконец, наладившиеся взаимоотношения между СССР и строго блюдущей нейтралитет Швейцарией. Рецензия глупая, лживая, оскорбительная; любому непредвзятому читателю сразу же становится ясно, что Топоров просто-напросто сводит с Максом Фришем личные счеты!»
Прочитав такое (и показав письмо заведующей отдела, а уж она – мне), донской казак Лавлинский, брошенный партией на укрепление литературно-критического хозяйства, несколько обомлел. Поинтересовался, бывал ли я за границей. Поинтересовался, не приезжал ли к нам в страну Фриш. Ответ оказался в обоих случаях отрицательным.
Рассориться (а для начала, познакомиться) можно, конечно, и по почте, – однако попробовали бы вы в те годы завести переписку со знаменитым писателем из капстраны! К тому же будучи по советским законам «тунеядцем» (а мой статус, увы, был именно таков)!.. Короче говоря, мне заказали новую рецензию на зарубежное произведение, настоятельно порекомендовав всё же написать ее помягче…
Миф о систематическом сведении личных счетов в литературно-критических высказываниях преследует меня с нежных юношеских пор, когда и высказывания мои были (вынужденно) дописьменными и бесписьменными, сиречь устными. Иной раз (и сколько таких разов было!) у меня уважительно – или не очень – спрашивали после очередного выступления на литературном кружке или на «квартирных чтениях»: а что плохого сделал тебе этот человек?
«Ничего, – искренне отвечал я, – мне просто не понравились его стихи (или проза, или эссеистика)!» – но мне практически никогда не верили.
К тому же, я то и дело облекал негативные суждения в эпиграмматическую форму.
«Как увидишь Гройса, моментально скройся!» – посоветовал я друзьям, впервые обстоятельно побеседовав со снискавшим впоследствии широкую известность культурологом. «На ленинградского Расина не пожалею керосина!» – объявил на заседании секции художественного перевода, посвященном выпуску трагедий великого француза в «Литературных памятниках».
«По «Первым впечатлениям» был встречен с восхищением, но, взят «Ночным дозором», объявлен книжным вором и, судя по «Приметам», херовым стал поэтом!» – так (впервые в жизни!) откликнулся я на творчество Александра Кушнера, три первые книги которого назывались, соответственно, «Первые впечатления», «Ночной дозор» и «Приметы».
 Может быть, я сводил личные счеты с Сусловым? |
Однажды, проснувшись в купе «Стрелы», проходящей уже мимо Останкинской башни, и услышав от попутчиков о том, что ночью скоропостижно скончался серый кардинал Кремля, я сгоряча выпалил: «Умер Суслов Михаил. Жаль, что очень долго жил!»
Соседи-подполковники меня чуть не повязали.
Может быть, я сводил личные счеты с Сусловым?
Или – в стихотворении «Киевское «Динамо» играет в Куйбышеве с местной командой «Крылья Советов» со знаменитым ныне, хотя и не слишком удачливым футбольным тренером: «Вот бежит куй-бышевец, а навстречу – хуй-Бышовец»?
Нет у меня личных счетов! Нет!!! По меньшей мере, с литераторами, как бы низэнько (или, наоборот, по своим крокодильим меркам, высоко) они ни летали…
Пару недель назад я опубликовал в ВЗГЛЯДе колонку «Про отмороженных» с разбором опубликованного в августовской книжке «Знамени» романа Олега Юрьева «Винета». Любому, кто более или менее регулярно читает мои колонки, ясно: я в очередной раз пеняю одному из «толстяков» за публикацию заведомой чепухи и за смехотворную – до пресмыкательства – юдофилию.
Вот, кстати, и в сентябрьской книжке «Знамени» – она уже выложена в «Журнальном зале» – главный прозаический текст называется «Выкрест» и представляет собой как бы жизнеописание Зиновия Пешкова-Свердлова, а едва ли не главный публицистический – «Пимен еврейского происхождения» – завершается поистине пародийным пассажем.
Итак, созданный гением Пушкина Пимен существовал в реальной жизни. Предки его, евреи, бежавшие от инквизиции из Италии. Сам он родился в Голландии и приехал в Россию торговым послом. Пимен Пушкина пишет донос на царя Бориса в глубокой тайне, в келье Чудова монастыря, потому что, говоря словами Пушкина, «говорить не слишком нынче смеют. Кому язык отрежут, а кому и голову... Что день, то казнь». А голландский Пимен об этом же пишет открыто, в центре Москвы при свете дня. Мы никогда не видели лица пушкинского Пимена и можем только представить себе сгорбленную фигуру убогого монаха, пишущего при свете догорающей лампады. А лицо Пимена, приехавшего из Амстердама, сохранила для нас волшебная кисть Франса Хальса. И здесь литература и живопись переплелись настолько, что не скажешь, где кончается гениальное предвидение Пушкина и начинается подлинная живая история. Мы смотрим на картину Франса Хальса и понимаем, что Пушкин был прав, утверждая, что ни одно преступление диктатора не окажется безнаказанным. Все тайное когда-нибудь становится явным.
Ясно это любому, кроме автора осмеянного романа. Топоров сводит со мной личные счеты двадцатилетней давности – глубокомысленно сообщает он в ЖЖ всем, кто поспешил выразить ему сочувствие или злорадство.
Что еще за личные счеты? Двадцать лет назад я составлял поэтическую антологию. Предложил сдать стихи Юрьеву и его тогда столь же юным друзьям. А по рассмотрении, стихи отверг и посоветовал авторам подыскать себе на будущее какое-нибудь не связанное со стихосложением занятие. Принявшись сочинять прозу (правда, с тем же успехом), Юрьев моим советом воспользовался.
Личные счеты могли остаться у него (да и то, скорее, литературные) – но уж никак не у меня. Вот, кстати, свидетельство мемуариста.
И в Фин-Эк стал захаживать, где в это время смастерил ЛИТО Олег Юрьев (жил такой в Питере вальяжный полуеврейский юноша и в некоторой мере поэт, позднее закатившийся в дальнюю германскую щель, там и до сих пор пребывающий). Нелишне заметить, что это были два плохо совместимых круга, едва ли не враждебных.
Вблизи Юрьева Топорова недолюбливали. Топоров уничижительно отзывался о талантах юрьевцев» (Анджей Иконников-Галецкий в книге «Пропущенное поколение», СПб, 2005).
Еще я прочитал в ЖЖ, что свожу личные счеты с Борисом Стругацким из-за того, что он, по-видимому, когда-то отбил у меня женщину. Это серьезное обвинение – но не по адресу. «Из-за длинной и белой ноги с Топоровым мы стали враги, покороче будь эта нога, я бы в Вите не нажил врага», – написал про меня вовсе не Младший Брат по Разуму, а малоизвестный, но замечательный петербургский поэт Евгений Вензель.
На всякий случай, сообщаю, что я едва знаком с Борисом Натановичем и даже не знаю, какая у него сексуальная ориентация (да и есть ли какая-нибудь). Я лично не знаком – именно не раззнакомился, а никогда не был знаком – ни с Александром Кушнером, ни с Анатолием Найманом, ни с Василием Аксеновым, ни со многими другими моими литературными «любимцами».
С Валерием Поповым, напротив, знаком – и приятельствовал до тех пор, пока не осведомил публику о том, что он исписался; в «Звезде» пил и печатался, пока не осознал, что она полностью прогнила с головы (сдвоенной соредакторской), а, скажем, к Андрею Битову отношусь с искренней и, насколько я могу судить, взаимной симпатией.
Но лоялен я читателю, а не «нашему брату писателю», которому нынче, говорят, живется трудно! Да и всегда жилось трудно. Личные счеты тут ни при чем.
На днях корреспондентка одной из популярных газет ошарашила меня вопросом: «Правда ли, что вы, Виктор Леонидович, а никакая не Катаева, написали на самом деле «Анти-Ахматову»?» «Нет, не правда, – ответил я ей, – и подтверждаю то же самое широкой публике. Но, поскольку я (пусть и не безоговорочно) поддерживаю «Анти-Ахматову», мне, пожалуй, пора высказаться на опережение: личных счетов к Анне Андреевне у меня тоже нет!»
Видел я ее, правда, только в гробу в Никольском соборе; но за пару лет до этого она пригласила меня (семнадцатилетнего) к себе в Комарово, и, хотя я к ней так и не поехал, привезла мне из Италии и передала через общих знакомых модный на Западе, как ей почему-то показалось, галстук… Стихов ее я не любил тогда, не люблю и сейчас – что правда, то правда. И мемуаров о ней – тем более.
Оно, конечно, не всё так просто: когда в печати или устно обзовешь дураком, бездарью или хотя бы посредственностью человека, против которого в личном плане ровным счетом ничего не имеешь, он, за редчайшими исключениями, постарается так или иначе ответить, так что личные счеты в конце концов неизбежно появятся.
Но это будут личные счеты второй свежести, второго порядка. И восходить они будут к счетам литературным – и только к ним.
У меня, во всяком случае. Хотя мало кто верит. Как сказала мне после двадцати лет знакомства одна литературная дама (доктор филологических наук, между прочим):
– Я знаю, Витя, почему ты меня так не любишь.
– ?????
– Потому что я тебе в молодости не дала.
– А я разве просил?
– Нет, не просил, но ты наверняка был бы не прочь!
А черт ее знает, может, она и права... Но мнения моего о писаниях этой ученой дамы (и сегодняшнего, и тогдашнего) это не изменило бы.
Или всё-таки изменило бы?
Ничего личного. Только счеты.
 Сергей Худиев
Нужно ли в России многоженство
Сергей Худиев
Нужно ли в России многоженство