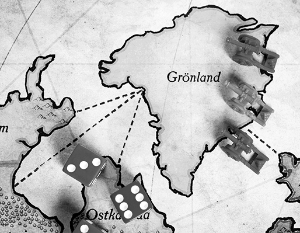Кино сыграло с писателем плохую в маркетинговом смысле шутку: подогревая интерес к создателю бойцовского блокбастера, оно отрезало от романиста иной, «серьезный» сорт читателей. Однако же на русском языке существует уже не только вышеупомянутый «Бойцовский клуб», но и другие книги Паланика – например «Удушье» (2001), «Уцелевший» (1999), «Колыбельная» (2002) и «Невидимки» (1999).
Разложив тексты в точной последовательности, можно видеть, как растет мастерство писателя, создающего тексты по одной узнаваемой схеме. Опыт Паланика важен еще и потому, что нынешние отечественные беллетристы волей-неволей повторяют его темы и сюжетные ходы.
Литература не спорт, однако на среднем, срединном уровне письма, обеспечивающем наше ежедневное чтение (чтиво), на первое место выходят внятные технологии. Русская литература никогда не была профессиональной, она только теперь становится профессией. Отсюда важность чужого опыта, ведь Паланик – беллетрист знаменательный. Исключительный в своем роде.
Паланик мастер плотности. Композиция не провисает, ружья стреляют – одни по ходу движения, другие постфактум
Скажем, самая поздняя из переведенных «Колыбельная» чудо как хорошо сложена. Стремительность, от которой невозможно оторваться. Легкость, которой не мешают лейтмотивные повторения.
Буквализация целой россыпи метафор (начатая в фильме «С меня хватит» с Майклом Дугласом и продолженная в последнем романе Стивена Кинга «Мобильник»), заставляющая думать, что сюжетокружение затевается не просто так, но ради некоторой сокровенной мысли или нескольких мыслей, вынесенных вовне. Тех самых бонусов, что делают простое беллетристическое токование максимально приближенным к «хорошей» литературе.
Паланик мастер плотности. Композиция не провисает, ружья стреляют – одни по ходу движения, другие постфактум. Всё отыгрывается и закольцовывается сразу же на всех уровнях и стадиях.
Книги Паланика делают два момента: интонация и лейтмотивная конструкция, опережающая своим значением сюжет. Лейтмотивы, с постоянным повторением и нарастанием, собственно, сюжетом и являются. Берется жесткий каркас, скелет, бандаж из самых разных событий, и все они одеваются в броню непробиваемой формы.
Так и видно, как писатель движется от первоначального зерна замысла, в котором лежит базовый концепт-метафора. В «Удушье» это стихийное строительство новой церкви. В «Уцелевшем» это исповедь сектанта, угнавшего самолет (последний оставшийся в живых). В «Колыбельной» – книга, которая убивает.
Основная сюжетная метафора соединяется с тематическим расширением – теоретическими выкладками и заданными темами. В «Удушье», к примеру, это современная сексуальность, безумие, отношения с родителями и с миром вокруг. В «Уцелевшем» – советы по домоводству, виды самоубийства, сектантство, списки фобий. В «Колыбельной» – сказка про сказки, фольклорные жанры, работа риелторов.
Видно, как зерно замысла обрастает попутными темами и лейтмотивами. Видно, как автор честно «изучает вопрос» – медицинскую терминологию или реалии исторической реальности 1734-го, в котором работает главный персонаж «Удушья» (живой манекен в историческом музее). На каждой странице – следы проштудированных монографий, отступления плавно вплетаются в повествование.
Это было бы голой конструкцией (дальше только сугубо экспериментальные постройки Итало Кальвино и Раймона Кено), если бы не интонация.
Интонация – то, что невозможно перенести на экран, то, что не дает роману окончательно превратиться в заготовку для киносценария. Интонация у Паланика бодрая, боевая, захватывающая с первой страницы.
Даже на русском отчасти сохраняется ритмичность, напоминающая не только манеру Виктора Шкловского (фраза-строка, фраза-абзац), но и модернистский канон ритмической, орнаменталистской прозы первой половины ХХ века. Не задушевная довлатовская сказовость, но рубленая постхемингуэевская струганина.
 Чак Паланик |
Когда самым важным оказывается выдержать один и тот же интонационный настрой от начала до конца. В конечном счете в него впадаешь как в колею, он прирастает – не оторвать, становится уже даже не маской, но сущностью. Для того чтобы книжка не распадалась на отдельные составляющие, их незалежность уравновешивается капиллярами лейтмотивов и ритмически организованных интенций. Хотя, конечно, сюжет по-прежнему остается важным.
Вот это-то, как ни странно, кажется мне недостатком. Из-за такой вот стремительности убивается самое главное – послевкусие и ощущение важной проделанной работы. Как писателем, так и читателем.
Сюжет катит как по маслу и оттягивает на себя все читательское внимание. Прочие составляющие уходят в тень. Сюжет выпирает главным конструктом, оттого и остается, застревает в памяти. Тогда, как в снах, главное (и непередаваемое) все-таки – атмосфера.
Но мы как-то вот так решили, что шедевр (плод зрелого мастерства) – это когда видна и очевидна красота именно конструкции. Ее нарочитая искусственность и внеположность реальной реальности.
Нужно отдать должное Паланику – у него теоретические выкладки не выглядят вставной челюстью, как у Уэльбека, и не подменяют собой сюжет, как в искусствоведческих триллерах типа «Кода да Винчи».
В «Удушье», в «Колыбельной» и в «Невидимках» Паланик приподнимается над беллетристической иллюстративностью в сторону чистого (серьезного) художественного жеста.
Однако же родовая травма доступности и здесь дает о себе знать в полной заполированности всех составляющих. Все они порционно нарезаны и красиво упакованы.
Все линии и ходы в конечном счете отыгрываются, закольцовываются, отрабатываются. А пасьянс, пазл складывается в сухую, герметичную фигуру, дверь захлопывается с таким шумом, что ни одного сквозняка или запашка не просачивается. Съел – и порядок, то есть прочитал изысканную, мастерски сконструированную конструкцию, вытер губы салфеткой и попросил счет.
Нужно ли говорить, что русский роман таким быть не может! Если в тексте нет рыхлости и расхристанности сюжетных линий, соскочивших и разлетевшихся, как троллейбусные дуги, в разные стороны, читать неинтересно – послевкусие завязано на композиционное несовершенство (подлинное или мнимое), ибо только недоговоренность и неясность запускают механизмы читательского присвоения.
Несостыковки необходимо обживать, объяснять (иначе не примешь), выдувая свой собственный способ существования текста и себя внутри текста. Когда читатель хотя бы немного становится соавтором.
Совершенные механизмы, все детали которого смазаны самым лучшим машинным маслом, оказываются в конечном счете безучастными – они слишком хороши сами по себе. Они слишком герметичны, чтобы впустить нас. Они не дают мыслить читателю, думая и решая вместо него.
Технологическое совершенство заставляет скользить по поверхности, не давая заглянуть внутрь, – потому что если и есть у такого текста глубина, то она никак не связана с тем, что рассказывается, но с личностью автора, придумывающего своим состояниям и болям отвлеченные безличностные метафоры.
Она связана с творческим процессом как таковым, но если вскрывать прием и вытаскивать швы наружу, то выйдут очередные «8 1/2» (книга о том, как была написана/не написана книга), а их мы тоже уже накушались в достаточной мере.
 Борис Акимов
Живые елки против пластмассового мира
Борис Акимов
Живые елки против пластмассового мира