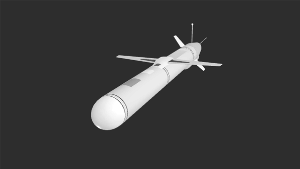Главный неполитический тренд сезона – ведущиеся в обществе споры о морали. После громкого дела Pussy Riot, которое стало спусковым крючком, самые разные консервативные силы (в том числе и во власти, где хватает и либералов) со всех фронтов начали борьбу против того, что они считают нарушением устоев.
С одной стороны, речь идет и о законодательных ограничениях, с другой – о вполне сформировавшемся общественном запросе на мораль. Симптоматично в данном случае, например, письмо блогера Кристины Потупчик министру культуры Владимиру Мединскому, уполномоченному по правам ребенка Павлу Астахову и генеральному продюсеру Первого канала Константину Эрнсту с требованием закрыть программу Андрея Малахова «Пусть говорят» из-за сюжета, который, по словам Потупчик, «сомнителен не только с нравственной, но и с юридической точки зрения».
Глядя на телегероев, мы живём чужой жизнью, а отчасти – делаем вид, что живём
Философ Андрей Ашкеров в интервью газете ВЗГЛЯД объяснил, откуда взялся запрос на мораль, почему нравственности на телевидении взяться неоткуда и чем все эти требования закончатся.
Жизнь без Малахова
ВЗГЛЯД: Андрей, не странно ли, что от Малахова требуют морали и нравственности? Или это нормально, потому что формальный запрос существует, причем исходит он от тех же людей, что там сидят у него в студии?
Андрей Ашкеров: Я думаю, что дело не в нравственности, а в ханжестве, в двойных стандартах. Никакой нравственности в медийном пространстве не существует, это разные поля. Медиа – как следует из самого слова – посредники. Они инсценируют наше существование, публичное существование всегда инсценировка. Телерассуждения о нравственности приводят только к системе двойных стандартов: мы никогда не будем такими, какими являемся в словах и образах. Однако соотносить себя с телегероями – это для абсолютного большинства единственный шанс на публичность. К тому же, ток-шоу придают жизни сюжетность. Но проблема в том, что, глядя на телегероев, мы живём чужой жизнью, а отчасти – делаем вид, что живём. И это тоже двойной стандарт.
ВЗГЛЯД: Телевидение влияет на состояние нравов...
А.А.: Телевидение – это вообще сказочное окошко из мира рутины, в котором ничего не происходит, в мир событий. Другое дело, что глядя в это окошко, зритель тешит себя мыслью: «Вот, у кого-то корова сдохла, а у меня не сдохла». Зритель – хитрец, он говорит: «Поживите-ка за нас нашей жизнью, а мы посмотрим». И ему всегда удобно вернуться в свою рутину, где ничего не происходит или, точнее, где скрывается всё происходящее от чужих глаз. А на ТВ другая крайность – площадность, шоу типа малаховского – это заседания нового месткома. «Мы собрались и решили». Но никто ничего не решает, важна свалка мнений, сам момент склоки.
Зритель говорит: «Это вы давайте производите нравственные оценки, а мы люди невеликие». Обывательское сознание хитроумно потому, что нивелирует трагедию: «Неразрешимые противоречия? Так их же нельзя разрешить, вот и оставим их в покое». Однако без опыта соприкосновения с трагической коллизией никакая этика и никакой индивидуальный выбор невозможны. А по ту сторону телеэкрана мы имеем массовку. Я не только о хлопающих зрителях, но о любых участниках телешоу, будь то олигарх или Алла Борисовна Пугачёва.
ВЗГЛЯД: Почему массовка?
А.А.: Потому, что каждый на ток-шоу публично инсценирует себя как определённую роль. Любой герой ТВ аналогичен камео в кино – он играет себя, делает вид, что он и есть он. Но для жизненного выбора места никакого не остаётся, ведь можно инсценировать себя, но невозможно инсценировать жизненный выбор. Нравственность – это дело, имеющее отношение к судьбе, но медийная публичность сегодня предполагает отказ от судьбы в пользу роли. При таком раскладе ничего за кадром не остается, никакой жизни за пределами публичности. Разговор на языке моральных оценок в этом контексте – глупость, помноженная на фарисейство. Хотя мы можем принимать всё это за чистую монету, ведь ток-шоу «за всё хорошее, против всего плохого» являются результатом эволюции фирменного жанра русской культуры, который называется «достоевщина». Он вышел из криминально-бытовой хроники – к нему и вернулся. Разница с XIX веком только в том, что на слезинке ребенка научились зарабатывать куда больше. Под слезинку стали размещать рекламу, слезинку стали измерять в рейтингах.
Кто формулирует запрос на мораль
ВЗГЛЯД: Но сам запрос-то на мораль есть. «Уже установите нам рубежи какие-то».
#{image=659879}А.А.: Запрос есть, он формулируется двумя силами. Первая сила – это Церковь, которая непосредственно с духовности и кормится, это огромная бизнес-среда, где ритуальные услуги – только маленький сегмент. Храм Христа Спасителя – как раз метафора этого бизнеса, потому что он и рекреация, и зал для приемов, и подземная парковка, и присутственное место и т.д. И ещё, конечно, Церковь хочет быть идеологическим отделом ЦК – определять некую всеобщую точку зрения, служить палатой мер и весов для вечных ценностей. Поскольку государство с этой задачей не справляется, «свято место» оказывается затребовано Церковью. Так Церковь не только становится витриной государства, его интерфейсом, но и претендует на то, чтобы выражать «госрезон», то есть систему интересов, которые больше, чем ценности, потому что обеспечивают возможность суверенного существования.
ВЗГЛЯД: А вторая сила?
А.А.: Крупный бизнес, отчасти тот же Михаил Прохоров, который прямо говорит: давайте не будем впадать в клерикализацию, давайте введем симметрию. Запрос крупного бизнеса состоит в том, чтобы соотнести капитализацию, весь этот твердый счет, с которым все соотносится у них в жизни и к которому они всех нас приучили, с какой-то моральной позицией. Притом что у нас нет никакого аналога протестантской этики, то есть механизма соединения выгоды и веры, который работал бы на всех и был для всех открыт. Наша экономическая система неофеодальная, это капитализм для избранных. Бизнес-возможности в нём целиком зависят от статуса. Но ему тоже нужен какой-то заменитель протестантской этики. Отчасти таким заменителем выступает Религиозный кодекс, предложенный Прохоровым. С точки зрения проблем этики смысл кодекса в том, чтобы заявить нам всем: «Пусть бизнес-возможности и статус неразделимы, статус не должен, по крайней мере, служить заменой моральных качеств и аналогом прижизненного спасения».
ВЗГЛЯД: Я не уверен, что РПЦ движут исключительно коммерческие интересы...
А.А.: Не только они, конечно. Тут вообще главное другое: Церковь монополизирует производство чуда, хотя не только она может его произвести. Но чудо и стоит дороже всего. Но вопрос, способна ли на него Церковь? И даже если способна – есть ли у неё права чудо монополизировать? Понимаете: если где-то чудо невозможно, значит, нужно получать его другим способом или получать право на чудо. И, кстати, я тут вполне готов в христианской логике рассуждать: чудо – это ведь благодать, а миру, где все выражается в логике купли-продажи и товарообмена, можно противопоставить только логику благодати. Вот только благодать нисколько не тождественна Церкви, а Церковь нисколько не чурается отношений купли-продажи.
Благодать и роскошь
ВЗГЛЯД: Но ведь нет ни у кого благодати.
А.А.: Слушайте, но ее и не должно быть ни у кого. Тот, кто объявляет, что у него есть благодать, заведомо является самозванцем.
Те, кто видел в Путине Штирлица, уловили общую тенденцию: чем больше проводится разграничительных линий между своим и чужим, тем больше возникает срединных людей
ВЗГЛЯД: Но есть же традиция русской благодати, был же Серафим Саровский...
А.А.: Постфактум. Все это обнаруживалось сильно потом, на исходе жизни этих людей, а больше придумывается. Тут важно разбираться в том, откуда какие культы взялись и как насаждались. Чем более мирской становится жизнь двора, тем больше потребность в анахорете федерального уровня где-нибудь на выселках. Если такого анахорета нет, его надо придумать. Чем больше стремления связать статус с роскошью, отлить себя не только в граните, но и в золоте с платиной, тем больше – как это было в царской России – запрос на аскетов, на подвижников, на старцев, которые показывают, что им это всё не нужно и не только богатством прирастают люди.
Паломничество к разнообразным старцам – это ещё ведь прекрасный способ предъявить, что ты «простой человек», по земле ходишь и ничто человеческое тебе не чуждо. Для этого и простой салоп можно накинуть, и народный кокошник нацепить, а там – чего уж? – и босичком пройтись, и люду крестьянскому слово молвить. Удивительно, почему сейчас не придумано какого-нибудь всероссийского старца с федеральной пенсией. При том уровне имущественного расслоения, который сегодня имеется, это давно уже архиважная идеологическая задача. Не будем, однако, забывать, что «старчество» и придворная роскошь могут замечательно сходиться, а вся история старчества чуть было не закончилась на Распутине – то ли старце, то ли панке, то ли аскете, то ли блуднике, то ли мистике, то ли фигляре.
ВЗГЛЯД: Вот именно: в современной России роскоши многовато (как-то даже слишком), а святости нет.
А.А.: Русскую культуру очень долго пытались запихнуть в рамки чистого духа, который все драматизирует, постоянно ищет себе испытаний и успешно их находит. И потребление, которое стало аналогом бунта, которое само по себе бессмысленно и беспощадно, – это, конечно, реакция на достоевщину в жизни. Что досоветский режим, что советский, что постсоветский – все они превращали жизнь простого человека в отработку достоевщины, и потому возникло обратное движение – все выразить через вещи, связать себя с этими вещами, найти гарантии своего существования в них – это своеобразный ответ на то, что мы смертны, когда никаких иных ответов нет. Покупая вещи, мы боремся со смертью.
Изъян общества потребления не в том, что мы покупаем вещи и их становится все больше. Проблема в том, что прилавок становится единственным способом обозначить различия. Поэтому стоит говорить уже не об обществе спектакля, как Ги Дебор, а об обществе прилавка. Бытовало в советские времена такое слово-клеймо – «вещизм», нацеленное именно что против товарного изобилия, когда «полки ломятся». Но дело-то не в вещизме самом по себе, в вещах нет ничего плохого. Дело в том, насколько человек сам оборачивается вещью, чтобы вещи получать. Вещь, находящаяся в собственности, становится продолжением человека. Вообще нужно обладать немалой широтой воображения, чтобы соотносить себя с вещами, очеловечивать вещи. Это такой новый анимизм. Но платой за него выступает превращение в товар самого человека. И когда мы говорим «человеческий капитал», мы подразумеваем, что человек стал универсальной формой товарности. Растут полки с товарами: изобретений становится все больше, модельных линий – все больше, продуктов – все больше и т.д. Но одновременно и совершенствуются способы наделения товарными характеристиками самого человека. И простым присутствием на рынке труда всё не ограничивается. Теория эксплуатации через присвоение прибавочной стоимости нисколько не описывает эту ситуацию, а, напротив, мешает её понять.
ВЗГЛЯД: Но это же нормально, ты же выходишь на рынок труда и там ты в каком-то смысле товар. Разве дело этим не ограничивается?
А.А.: К сожалению, нет никаких отдельных сегментов, все превращается в рынок. Иллюзия относительно того, что есть такие сегменты, – главная ложь нашего времени. Чтобы подсластить эту ложь, и возникают всякие там запросы на мораль. Есть просто разные прилавки, и мы по разные стороны прилавка стоим и что-нибудь продаём. Но именно в силу того, что товар «очеловечен» и выступает продолжением нас самих, мы продаём в конечном счёте себя.
Кризис миропонимания
ВЗГЛЯД: Вернемся к морали и к силам. Есть и третья сила – «люди Малахова», назовем их так... Ни к Церкви, ни уж тем более к крупному бизнесу они не относятся. Учительница за тридцать, которая сидит перед телевизором и требует морали, не была в храме, потребление у нее очень среднее, не на яхте же она рассекает. И требует ведь.
А.А.: Существует кризис миропонимания. Запрос на мораль – это запрос на самую простую сетку миропонимания, с помощью которой можно было бы что-то объяснить и как-то себя представить в этом мире. Бурдье говорил: «Не понимая политику, потому что она сложно устроена, она для профессионалов, люди переводят ее на язык морали». И на него все переводят, поскольку считается, он самый простой, этот язык морали. Однако проблема в том, что сегодня нет и его.
Второй момент – запрос, о котором вы говорите, – это запрос на то, чтобы переложить ответственность. Ведь что делает эта женщина, учительница за тридцать, требующая морали? Она же не задается вопросом: какой я могу сделать выбор? Она делегирует право выбрать и определить что-то за себя, то есть она дает полностью жить за себя, потому что моральный дискурс – это дискурс, который описывает саму возможность существовать в качестве субъекта. Есть запрос не на то, чтобы была мораль, а возможность существования как субъекта отдана на откуп. Как сейчас обозначается вилка – мы требуем морали, потому что мы не хотим быть нравственными и, строго говоря, делаем вид, что не существуем. Нравственность – это проблема выбора, проблема внутренней работы, которая тоже выражается внешне, но ты должен ее совершать сам. А у нас нет понимания, что ее никто не совершит. Это и называется прикидываться несуществующими, кем-то, кем можно пренебречь. Нет ничего удивительного в том, что тех, кто хочет казаться несуществующими, именно таковыми впоследствии и считают.
ВЗГЛЯД: Что произошло такого, если еще лет пять назад никакого вопля о морали не было?
#{interviewsociety}А.А.: Повысился уровень бытового комфорта. Путинская стабильность дала больше возможностей для досуга, а где досуг – там и запросы. Досуга, конечно, перед телевизором, потому что телевизор за нас формулирует не только, как нам жить, но и живет за нас. Малахов живет за всех 30-летних тётенек, хотя к ним иногда присоединяются и московские журналисты, желающие быть на него похожими и говорящие: «Это современный Юра Гагарин». Так вот, тетенька верит, что живёт она, причём живёт ярче, кустистее и, извините, стабильнее, когда она глядит в телевизор.
Однако это означает ровно одно: у тётеньки нет достаточной возможности жить своей жизнью. Более того, в отличие от политики, где хотя бы номинально существуют выборы, у тётеньки никто не спрашивает, какую часть своей жизни и на каких условиях она готова передать Малахову, Прокловой, Малышевой или Кире Прошутинской. Да и как эти части жизни сопоставишь и измеришь? В этом главная политическая уловка телевидения как пропагандистской машины – становиться формой прижизненной эвтаназии. У вас забирают жизнь при жизни – непонятно, за что и почему. Давайте честно – происходит это, потому что на низовом уровне – в условной школе, бухгалтерии или поликлинике – у нее нет возможности для индивидуального присутствия, она ни в чём не может оставить свой отпечаток.
Тридцатилетняя женщина, о которой вы упомянули, – это функциональная единица, которую всегда можно заменить такой же функциональной единицей. У неё нет возможности ни на что особенно влиять, организовывать сколько-нибудь нетиповые отношения, короче говоря, нет возможности обрастать средой. Произошёл внутренний коллапс того, что Мишель Фуко называл «микрофизикой власти», то есть всей совокупности отношений влияния, которые стоят страсти и жизни. Произошла железобетонная бюрократизация всех отношений. Существование и свобода людей выступают атрибутом статуса какого-либо первого лица, начиная от управдома и заканчивая главой корпорации. Сама того не желая, Россия превратилась в Японию. Социальные соты напоминают электронные платы, и попробуй выйти за их пределы.
ВЗГЛЯД: В итоге нам нужен новый Ницше?
Чем больше стремления связать статус с роскошью, отлить себя не только в граните, но и в золоте с платиной, тем больше – как это было в царской России – запрос на аскетов
А.А.: В итоге нам нужен новый духовный лидер, но не из среды православных фундаменталистов.
ВЗГЛЯД: Лев Толстой?
А.А.: Да, пожалуй.
ВЗГЛЯД: Тут не обойтись без «Войны и мира».
А.А.: Нет, уже нет. Сегодня человек, систематически превращающий свои послания в каналы коммуникаций (и обрастающий ими как сетью) – больше «великий метанарратив», чем роман-эпопея, который сегодня может так и остаться на полке книжного магазина. Хотя, отмечу, уже для Толстого романы были способом создать сетевой конгломерат, соединив сюжеты, литературные образы и живых последователей. Теперь для того, чтобы достичь тех же целей, роман не нужен. Скорее, он этим целям даже помешает. Возможно, именно поэтому писатели сегодня – социальные аутисты.
Лидер мнения сегодня – сетевая персона, однако не все формы коммуникации со средами и впрямь рождают смысловой эффект, сопоставимый с эффектом большого повествования, которое нам адресует автор. Скорее наоборот: сюжетное мелкотемье и смысловые полуфабрикаты (мемы*) рождают наибольший отклик, который сам принимает форму отсылки. Культура цитаты, воспетая в эпоху постмодерна, поставлена на конвейер в социальных сетях. Так что в роман складываются не как сумма высказываний среды, а сама её жизнедеятельность, оказывающаяся, как и в случае с романом, способом предъявления героя на негероическом или даже антигероическом фоне.
ВЗГЛЯД: Но среды ведь очень узкие.
А.А.: Но шире-то ничего нет. Кроме телевизора, конечно. Но широта может быть и проблемой. Телевещание опознаётся сегодня многими примерно так же, как сталинские высотки в эпоху борьбы с архитектурными излишествами.
ВЗГЛЯД: Что не устаревает, что идет на смену?
А.А.: Критика перестаёт восприниматься как средство политического самосохранения, а критики превращаются чуть ли не в предателей. Но критика поддерживает критикуемые объекты (такие, как «ложное сознание», например), тщательно их оберегает и воспроизводит. Когда в определённый момент охранителями стали «рассерженные молодые люди», это была попытка применить критику как инструмент консервации критикуемой системы отношений, прежде всего экономических. И это был ответ на то, что критиками стали все без исключения, а сама критика – главенствующей формой повиновения. Критик – это ведь не только тот, кто находится на стороне отдающих приказы. Не меньшим, а намного большим критиком является и тот, кто приказы раздаёт. Критика через консервацию критикуемого создаёт эффект управляемых изменений. Без критики изменения будут неуправляемыми. С одинаковым азартом могут топтать того, кого недавно превозносили. Попытка управлять всем и сразу ничем не отличается от неуправляемости. Ситуации наибольшего политического риска как раз и связаны с тем, что повышение управляемости будет оборачиваться неконтролируемым разрастанием неуправляемости. И это цугцванг, когда любой шаг в игре будет оборачиваться против тебя.
ВЗГЛЯД: Как сегодня соотносится этика и политика?
А.А.: Друг-враг – это базовые политические понятия. Они эквиваленты этическим категориям добра и зла. Однако по мере того, как они разграничиваются, возникает и больше возможностей для их взаимообмена. Некоторые понимают это как разрастание серой зоны неразличимости. Однако соединение своего и чужого может происходить по совершенно разной рецептуре. «Свой среди чужих, чужой среди своих» – это характеристика разведчика. Однако разведчики не сделаны из одного теста. Напротив, в ситуации, когда один другому – разведчик, могут реализовываться самые разные стратегии шпионского поведения. Образ Путина не зря кроился по образцу Штирлица. Те, кто видел в Путине Штирлица, уловили общую тенденцию: чем больше проводится разграничительных линий между своим и чужим, тем больше возникает срединных людей. Начавшееся в декабре прошлого года обострение борьбы по мере «стабилизации стабильности» породит огромное множество подобных персонажей – трикстеров устойчивого развития, джокеров всевозможных междуцарствий. И местом, в котором они получат свой старт, будут скорее институты официальной власти, нежели оппозиционные «оккупаи» и «марши миллионов».
ВЗГЛЯД: В официальной риторике наметился поворот к патриотизму. Защищать Родину – это профессия, а любить её – призвание?
Культура цитаты, воспетая в эпоху постмодерна, поставлена на конвейер в социальных сетях
А.А.: Есть две разновидности патриотизма. Одна основана на разграничении родного и инородного, другая – на восприятии родного как вселенского. Первый патриотизм – нутряной, дорефлексивный. К нему легко взывать, но у него нет языка, чтобы дать ответ. Это патриотизм народа, который безмолвствует. Второй патриотизм предполагает понимание и интерпретацию. Он шире простого отношения к Родине. Это способность поместить себя внутрь эпоса, представить происходящее с тобой через категорию исторической судьбы.
Новое пространство
ВЗГЛЯД: В Америке на политических дебатах часто принято декларировать национальные ценности, начиная от семейного счастья и заканчивая индейкой на День благодарения? Не приходим ли мы к тому же самому в России?
А.А.: Нет, мы еще только подходим к попытке соотнестись с тем, что такое спокойное американское движение. Для нас стабилизация – больше чем рывок. Это вызов катастрофе. Однако, как и любой вызов катастрофе, она и сама по себе катаклизм. Код стабилизационной политики равносилен управлению временем. В нашем случае управление временем не метафора, а конкретные решения по поводу отмены, а потом введения зимнего времени. Введение зимнего времени непосредственно после его отмены – пример реставрации в наиболее радикальном её воплощении, а реставрация, как известно, лучший способ уничтожить реставрируемое. Стабилизация равносильна подмораживанию, которое чередуется у нас с оттепелью. «Россию нужно подморозить» – стабилизационная программа не только для XIX века. В этом Россия отличается от Америки.
Американцы извлекают из болотистой провинциальной вязкости энергию, наподобие того, как из настоящих болот добывают горючий материал – торф. Мы, благодаря подмораживанию, не добываем энергию, а организуем нечто неорганизованное. При этом русский мороз, как это доказывал и опыт по крайней мере двух отечественных войн, скорее соотносится со стихией огня, нежели воды. Он сам по себе энергия, в той же мере движущая, в какой и сковывающая. Нынешняя фаза стабилизации должна учитывать пример брежневского застоя, с которым связана нефтегазоносными трубами преемственности. Тогда тоже рассуждали по принципу: «А давайте попробуем без рывков, уже надрывались». Однако надорвались, именно порываясь исключить рывки.
ВЗГЛЯД: Только ленивый не пытался вывести причуды русской души из черт русского пространства...
А.А.: Вопрос надо ставить иначе: какие черты русской души моделировали при всех попытках изменить структуру пространства. Это имеет непосредственное отношение к тому, что через реорганизацию пространства не только занимались обоснованием авторитета власти, но и меняли «нравственный облик». Собственно, весь советский мироустроительный радикализм был подчинён, с одной стороны, поддержанию дистанции между добром и злом, а с другой – общему смягчению нравов. Все знают, что на строительстве сталинских каналов использовали труд заключенных, но мало кто помнит, что день этого труда засчитывали за три дня заключения. Но это формальная сторона дела. Куда более интересна связь преобразований пространства с тем, что можно назвать – по аналогии со сталинским определением литературы – инженерией душ. Скажем, те же сталинские каналы несут идеи планомерности, соединённой с преодолением невозможного (при Петре и раньше Волгу пытались соединить с Доном, но не получилось). Планомерность, которая подчиняет действие схеме, а пространство – линейности карты, противостоит кондовости – взгляду с насиженного места. Мелиорация, практиковавшаяся на протяжении всего советского периода, – это, конечно, пространственный аналог справедливости.
ВЗГЛЯД: А освоение целины?
А.А.: Это соединение душевной широты – уже в новосоветском, а не старокупеческом понимании – с обработкой, возделыванием и обживанием. Душевная широта категорически противостоит в данном случае демонстрации роскоши: роскошь ведь по большей части связана с рентой и оборачивается проявлением косности.
ВЗГЛЯД: А освоение Западной Сибири, за счёт которого мы живём до сих пор?
А.А.: Мне кажется, это попытка мыслить на уровне глубин, которые превосходят психологические, «забуриваться глубже». В каком-то смысле нефтяная вышка, наряду с космической ракетой, – один из символов пронзённого, как бабочка булавкой, пространства. И противоядие от достоевщины как мрачного детища психологического подземелья. Кто бы мог подумать, что противоядие сработает прямо противоположным образом – достоевщина никуда не денется, но станет к тому же ещё и коммерческой. Процент на слезе ребёнка, как уже было сказано.
 Сергей Лебедев
Почему у США нет никакого плана по Ирану
Сергей Лебедев
Почему у США нет никакого плана по Ирану