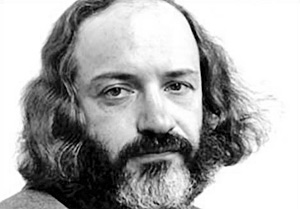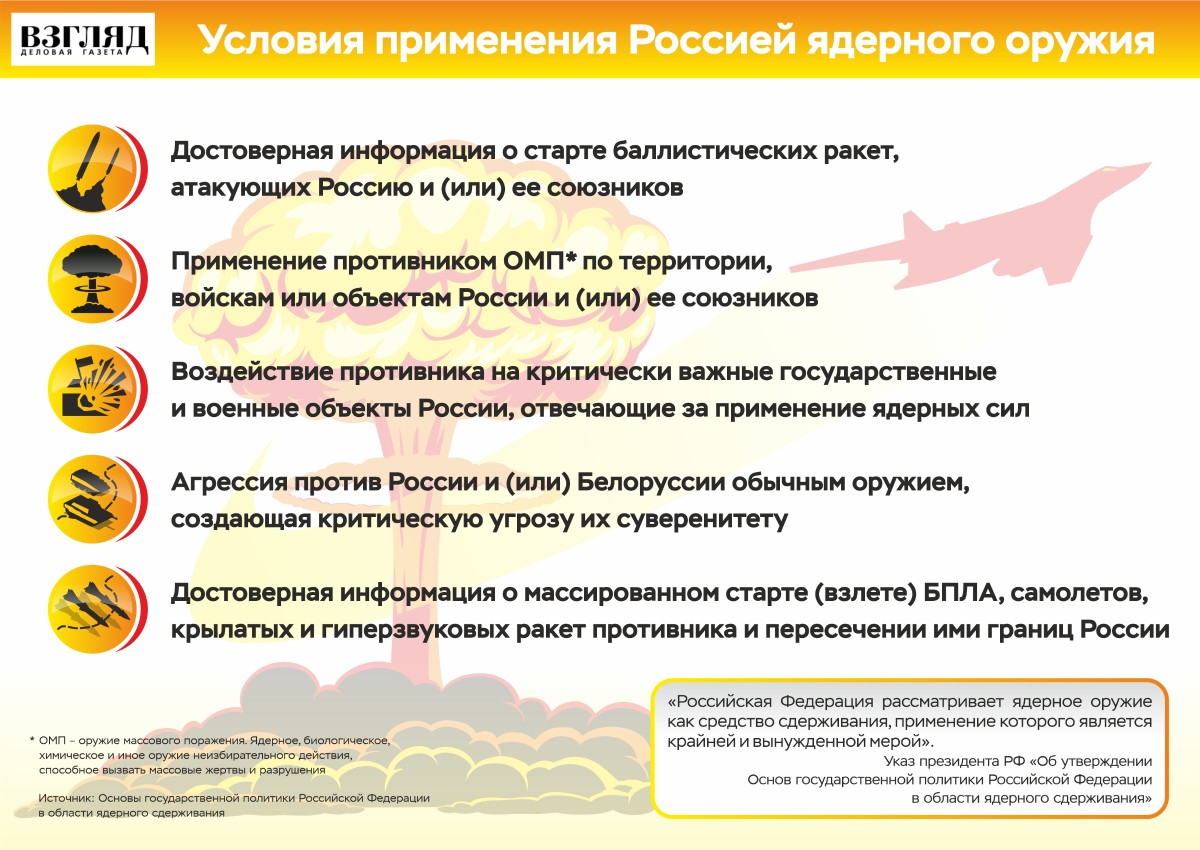В этом году слушателей его лекций о языковых расширениях, о культурологии третьего тысячелетия и новых тенденциях в философии ждал сюрприз. Среди многочисленных тем, о которых говорил профессор Эпштейн, была эротология, новая наука о любви.
- Года обычно клонят к суровой прозе, Михаил Наумович, а не к ветреной любви… В чем причина вашего нового интереса?
- Нет, вдруг выясняется, что года могут клонить к чему угодно, но остается лишь любовь. Бог есть любовь, человек есть любовь, да и профессиональное призвание есть любовь. Если ты равнодушен к предмету занятий, к тому же языку, не хочешь рождать в языке и от языка, – то это все мертво: медь звенящая и кимвал бряцающий, по слову апостола Павла. Так что минувший мой писательский год прошел под знаком науки о любви, эротологии: я написал несколько эссе, задумал книгу, и то, что писал раньше на эту тему, стало врастать в общий замысел.
- Надо ли придумывать новую науку, если есть уже, кажется, сексология?
- Сексология родилась как наука о патологиях половых отношений. И то, что она настолько распространилась в обществе, претендуя на изучение и раскрытие всех взаимоотношений между полами и даже внутри одного пола, указывает на медицинский и клинический источник этой парадигмы мышления современной культуры.
- Эротология это древние трактаты о любви, вроде «Камасутры» или «Ветки персика»?
- Да, но не только. Из-за этих древних трактатов о любви эротологию понимают как некую мифологическую отрасль сексологии. Мол, как из алхимии выросла химия, так из этих древних трактатов вырастает сексология. Я же полагаю, что эротология это просто другая наука – гуманитарная наука, в отличие от сексологии как науки естественной, граничащей с физиологией и медициной и изучающей то общее, что есть в сексуальных отправлениях человека и животных.
 Михаил Эпштейн (vavilon.ru) |
- А эротология животных отбрасывает?
- Эротология имеет дело с любовью как человеческим феноменом. И в этом она взаимодействует с эстетикой и с теорией искусства, с философией, лингвистикой, теологией.
- Что же отделяет нас от животного секса?
- Для начала обратите внимание на особенность человеческих желаний. Это – именно желания, а не хотения. Даже в обыденном языке мы говорим – «хочу есть», «хочу пить», «хочу посмотреть». Но – «желаю славы», «желаю богатства», «желаю бессмертия». Есть словарь «сочетаемости слов русского языка», который показывает, что желание, в отличие от хотения, обращено на нечто недостижимое, невоплотимое. Хотение обращено на то, чем можно насытиться. Смысл желания в том, чтобы желать еще больше. Бессмертие или славу, как и любовь, невозможно употребить. Желание наслаждается не разрядкой желания, но своим продлением в бесконечность.
- Осталось задуматься, как этого достичь?
- Через мучительную диалектику желания. Животные быстро кончают. В то время как человек хочет продлить бесконечно свое удовлетворение от неудовлетворенного желания. Удовлетворять и не удовлетворять одновременно. Совсем недавно мы отметили 150-летие Фрейда. Он писал о репрессиях, которые общество и реальность обрушивают на бесконечность желания. Наше либидо, подавляясь, обращается в невроз. Позвольте не согласиться с Фрейдом: механизмы подавления желания исходят от самого желания так подавлять себя, чтобы при этом усиливаться. Это как пресс, который превращает сок винограда в вино, в хмель. Человеческое желание само накладывает на себя табу, репрессирует, украшает предмет любви, делая все более недоступным. Культура – это не подавление желания, а его расцвет. Отсрочивая удовлетворение, мы тем самым усиливаем его.
- Чем больше преград, тем лучше?
- Да, любимое тело надо одеть в платье, окружив преградами. Потому что на самом деле человеческое желание направлено не на тело, а на себя, оно не предметно, как хотение, а идеологично: я желаю, чтобы меня желали! Человек стремится быть желанным тем, кого он желает. И это взаимное отражение желаний двух человек похоже на бесконечность отражения в наставленных друг на друга зеркалах.
- Какие еще понятия есть в новой науке эротологии?
- Как в науке о языке есть единицы значений, так в эротологии есть единицы эротического отношения – эротемы, означающие переступание через грань дозволенного. Для кого-то эротемой может быть совокупление с таиландкой на крыше небоскреба во время грозы. Для другого – прикосновение к мизинцу любимого существа, как для гетевского Вертера. Когда он прикоснулся к мизинцу Лотты, он почувствовал страдание, потому что желал узнать, желанен ли он, и ощутил свою нежеланность. У Бунина в «Темных аллеях» описаны многочисленные эротемы, задающие динамику любовному сюжету. У Пушкина в стихотворении «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» противопоставлены два вида эроса – буйный и застенчивый. И автор отдает предпочтение второму. «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем, восторгом чувственным, безумством, исступленьем, стенаньем, криками вакханки молодой… О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я, когда, склоняяся на долгие моленья, ты предаешься мне нежна без упоенья…» Почему так? Пушкин подмечает существенную, если не главную особенность эротического отношения, – чем больше табу, тем сильнее степень эротического напряжения. С застенчивой избранницей он чувствует большую напряженность наслаждения, поскольку эта граница очень близко. Тогда как в отношениях с вакханкой вообще нет никакой границы, а, стало быть, нет и ее переступания.
 Михаил Эпштейн (vavilon.ru) |
- Известным мастером таких «эротем» был Федор Павлович Карамазов у Достоевского.
- Да, он знал цену желания, и главным предметом его сладострастия и развратных помыслов были «мовешки» – граница проходила через их внесексуальную внешность и манеры. Он сладострастно взламывает границу, отделяющую его от юродивой Лизаветы, бомжихи, как мы бы сейчас сказали, от которой у него родился Смердяков.
- Сладострастие, оно же – разврат?
- Нет, надо различать разврат и сладострастие. Разврат оперирует гиперболами – скольких вылюбил, сколько семени пролил. Сладострастие же испытывает удовлетворение от самого процесса переступания границы, от упоения недозволенным, которое ты сам таковым и объявил. В русской поэзии и литературе прослеживается два типа поэтов – сладострастников и развратников.
- Вот и скандал с оскорблением чувств верующих – в литературе?
- Я не имею в виду их практического поведения, а уж тем более оценки. Это тип психологической личности. У Блока в стихах ощущается структура разврата и состояние скуки как результата его. Ибо перед тем, кому ничего не желанно, простерта пустыня. А сладострастник бережет ауру недозволенности, чтобы еще и еще раз ее переступать. У Пастернака, при том что он не был сладострастником в практическом смысле, эта структура есть: прикасаться и отдергиваться.
- А Есенин, еще один, как Пастернак, герой нынешних телесериалов?
- Есенин – развратник, испытывающий быстро наступающее опустошение. Его многократные излияния и соития ничего не оставляют после себя, тогда как сладострастие – это накопительное, а не расточительное отношение. Развратник тот, кто бросает тысячами и миллионами, как Рогожин. Сладострастник – это, скорее, пушкинский Скупой рыцарь, который трогает свои монеты, перебирает их, наслаждаясь.
- Интервью – это пунктир, но где-то можно прочитать об этом подробнее?
- Моя работа «Поэтика желания» в сокращенном виде печаталась в журнале «Звезда», вошла в мою книгу «Знак пробела», в расширенном виде должна выйти в книге «Философия тела» в питерском издательстве «Алетейа». Самое важное для меня – это разделение сексуального, эротического и собственно любовного. Сексуальное – механизм, созданный природой для размножения организмов. В этом мы – часть животного мира. Эротическое же – это способ умножить само наслаждение, а не его продукты. Человек – смертное существо, как животное. Но он знает о своей смертности и старается оттянуть этот финальный момент, продлевая, в том числе, эротическое наслаждение, оттягивая оргазм и эякуляцию. Сексуальное природно, но эротическое – культурно.
 Михаил Эпштейн (www.v-ostrov.com) |
- А любовь, о которой вы еще не сказали?
- Любовь – это как бы третий этаж. Если в эротике человек стремится обрести бессмертие, безнадежно пытаясь продлить себя, то любовь обнаруживает это бессмертное в другом существе. При этом ты можешь стать бессмертным только с ним – друг для друга и друг через друга. На этом уровне размышляет Платон в «Пире», размышляет Владимир Соловьев в лучшем своем произведении «Смысл любви». Здесь ты не попираешь свой род, как в эротике. Ты себя, индивида, превозмогаешь тем сверхличным, которое объединяет тебя с другим. Ведь абсолютное дано человеку в том, чему он соразмерен. И любовь – это именно такая редкая соразмерность двух существ, через которую им дано почувствовать абсолютное.
- Стать андрогином?
- Да, познать тот андрогин – двуполое, двулицее, двузадое существо, о котором говорит Платон. То целостное существо, разделенное на две части, которые всю жизнь тянутся друг к другу, чтобы возродить утраченное единство. Когда каждая струнка в одном существе отзывается на струнку в другом. И если любовь часто заводит разговор о смерти, то потому, что не боится ее, бросает ей вызов. Ибо видит перед собой конец жизни, через который только им двоим – и вдвоем – и дано перешагнуть.
- Еще одна граница для сладострастного перешагивания?
- И для разглаживания, преодоления этой границы. Каждое животное после соития печально, пишет Аристотель, добавляя, правда: кроме женщины и курицы. Бердяев, не различая зачастую эрос и любовь, говорит, что сексуальный акт приводит не к соединению любящих, а к еще большему их разъединению. Отсюда, опустошаясь, мы испытываем печаль. И у Пушкина в «Сцене из Фауста» разврат, стремясь насытиться боязливой красой, потом испытывает брезгливость и отвращение к ней. Кстати, Толстой так же изображает первую близость между Вронским и Анной, – как если бы разбойник набросился на тело и стал его кромсать и терзать.
- Печально…
- Но мне кажется, что в настоящей любви печали от семяизлияния, как от маленькой смерти, не происходит, потому что и смерти для нее нет. Наоборот, происходит соединение четырех составляющих любви – желания, вдохновения, нежности и жалости. О них нужно отдельно говорить. И ты чувствуешь себя не выброшенным в поток времени из вневременного оргазма, а слышишь всю ту музыку, что звучала на протяжении близости, как единовременную, как некий застывший архитектурный ансамбль. Где «мое» и «твое» становится «нашим», которое уже невозможно разъять на части. Моцарт писал в письме к другу, как к нему приходит музыка. Она является вся сразу – начало, середина, конец музыкальной пьесы – и только потом распадается для него на отдельно звучащие во времени фрагменты. А потом опять собирается в некое целое. То же описывает Хемингуэй в сцене любви Джордана и Марии в романе «По ком звонит колокол», когда под ними поплыла земля. В любви время соединяется в нечто вневременное: «мое» и «твое» становится «нашим», которое уже нельзя разъять на части. И в этом любовь отличается от эроса, который ищет наслаждения для себя одного, попирает собой род человеческий, а потом ужасается бездне, которая раскрывается перед ним. Любовь же не печальна, поскольку обретает – все.
 Олег Хавич
Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»
Олег Хавич
Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»